От дьявола до психиатрии: невменяемость и преступления
Иллюстрация: Право.ru/Петр Козлов
Долгие века суды колебались между тем, считать ли невменяемость психическим расстройством, или это грешник перешел на тёмную сторону силы. Пока одни пытались войти в положение тех, кто помешался, другие их просто вешали. Но даже сейчас, в XXI веке, американское правосудие до сих пор не готово принимать невменяемость в качестве оправдания для преступивших закон: сказываются и косность законодательства, и некомпетентность адвокатов по назначению. О состоянии дел в США порассуждал бывший судебный психолог и прокурор Сэм Хейзлби.С самого появления письменного права, западное общество признаёт: некоторые люди не могут нести ответственность за свои действия из-за невменяемости. Такое исключение для уголовной практики стало актом милосердия, которого требовали элементарные нормы морали: бесчеловечно предъявлять обвинение тому, кто не знал, что его поведение противоправно. Этот принцип укоренился в английском общем праве, а оттуда перекочевал в правовую систему Соединённых Штатов. Но на повестке всегда оставался вопрос, который в 1843 году сформулировали во время обсуждения в Палате Лордов: «Какие вид и степень невменяемости могут оправдать жертву психического расстройства?»
Но на повестке всегда оставался вопрос, который в 1843 году сформулировали во время обсуждения в Палате Лордов: «Какие вид и степень невменяемости могут оправдать жертву психического расстройства?»
До ХХ века о психических заболеваниях было известно мало. Считалось, что общего кругозора достаточно, чтобы определить, является ли человек серьёзно душевнобольным. В таких делах работал принцип «когда увижу, тогда узнаю».
До ХХ века считалось, что психические заболевания можно определить «на глаз», и для этого нужен лишь общий кругозор.
Суды пытались кодифицировать и привести к единому стандарту концепцию «невменяемости» в уголовном праве. К XVIII веку в Англии широко применялся такой тест: если человек «полностью лишён рассудка и памяти, и не знает, что он делает, не более, нежели дитя, нежели грубый или дикий зверь — он не должен подвергаться наказанию». Животные не осознают нравственной стороны своих деяний. Считалось, что душевнобольного нельзя наказывать за неправомерные действия, если он не осознаёт их «противоправность» — т. е. аморальность и греховную природу.
е. аморальность и греховную природу.
В западной философской традиции считается, что у людей есть свободная воля, и, следовательно, они могут выбирать — творить добро или зло. Если они выбирают зло, общество имеет право наказать их. Но люди с серьёзным душевным расстройством всегда освобождались от наказания. Об этом писал ещё Августин Блаженный: «Все люди обладают свободой воли, но ограничены в ней дети, глупцы и безумцы, которые не обладают разумом, чтобы выбирать между добром и злом». Суды продолжали признавать виновным каждого, кто «осознавал» то, что делал и кто понимал злонамеренность своих действий. Проблема с этой формулой в том, что мы измеряем грубость преступления через степень нашего возмущения им. Поэтому применение такого подхода на практике оказалось противоречивым.
Дьявол или депрессия?
В американских колониях суды колебались между подходом по принципу «добро против зла» и акцентом на душевном расстройстве обвиняемого. В 1639 году Дороти Толби повесили в Колонии Массачусетского залива за то, что она сломала шею своей трёхгодовалой дочери по имени Диффикалт (с англ. — «сложная, тяжёлая»). Губернатор Уинтроп сказал, что Толби «была одержима Дьяволом, который убедил её (с помощью обмана, который она услышала и приняла за божье откровение) сломать шею собственному ребёнку». Пуритане решили, что Толби совершила злодеяние, хотя это, скорее всего, был тяжкий случай послеродовой депрессии.
— «сложная, тяжёлая»). Губернатор Уинтроп сказал, что Толби «была одержима Дьяволом, который убедил её (с помощью обмана, который она услышала и приняла за божье откровение) сломать шею собственному ребёнку». Пуритане решили, что Толби совершила злодеяние, хотя это, скорее всего, был тяжкий случай послеродовой депрессии.
Дело Мерси Браун рассматривалось в 1691 году в Коннектикуте. История женщины хорошо знакома местным горожанам как история «помешанной и умалишённой». Когда Браун убила своего ребёнка, суд решил, что она не контролировала свой разум. И хотя её взяли под арест «чтобы предотвратить такое же или другое злодеяние впредь», женщину не приговорили к смертной казни, как других обвиняемых в убийстве в те времена.
Позже, в Англии, когда защита просила признать невменяемым Эдварда Оксфорда, безработного официанта с душевным расстройством, который совершил покушение на жизнь королевы Виктории в 1840 году, суд постановил, что «если какая-либо болезнь… взяла над ним верх, и он не мог ей противостоять, то он не понесёт ответственность». Аналогичный случай был с обедневшим бредившим шотландским лесорубом по имени Дэниел М’Нагтен. Он совершил покушение на премьер-министра в 1843 году, убив, правда, вместо главы правительства его секретаря. Обращаясь к коллегии присяжных, судья сказал следующее: «чтобы понять, что подсудимый совершил противоправное или злонамеренное деяние, надо ответить на следующий вопрос — прибегал он или нет к своему разуму во время совершения деяния? Если присяжные придерживаются мнения, что заключённый был не в себе во время совершения преступления, когда нарушал и божьи, и человеческие законы, то решение будет принято в его пользу».
Аналогичный случай был с обедневшим бредившим шотландским лесорубом по имени Дэниел М’Нагтен. Он совершил покушение на премьер-министра в 1843 году, убив, правда, вместо главы правительства его секретаря. Обращаясь к коллегии присяжных, судья сказал следующее: «чтобы понять, что подсудимый совершил противоправное или злонамеренное деяние, надо ответить на следующий вопрос — прибегал он или нет к своему разуму во время совершения деяния? Если присяжные придерживаются мнения, что заключённый был не в себе во время совершения преступления, когда нарушал и божьи, и человеческие законы, то решение будет принято в его пользу».
М’Нагтена оправдали, но это дело стало поворотным: королева Виктория была раздражена оправдательным приговором. В письме к премьер-министру Уильяму Юарту Гладстону в 1882 году, она написала: «Наказание останавливает не только вменяемых людей, но и эксцентричных, которые совершили противоправные деяния из-за больного мозга. Понимание того, что их оправдают из-за их невменяемости, вдохновит таких людей совершать безрассудные поступки. С другой же стороны, уверенность в том, что они не смогут избежать наказания, будет устрашать их и заставит вести себя мирно по отношению к другим».
С другой же стороны, уверенность в том, что они не смогут избежать наказания, будет устрашать их и заставит вести себя мирно по отношению к другим».
С точки зрения психиатрии, эта позиция необоснована. Не существует психически больных людей, находящихся в сильном бреду, которых можно было бы с помощью рациональных аргументов отговорить совершить преступление. Но тезис королевы Виктории иллюстрирует то, что канадский юрист Кьяра Туль (Маккей) в 2012 году назвала «коллизией между фундаментальной концепцией морали и правовой ответственностью, а также новым научным пониманием болезней и работы психики».
По распоряжению королевы Виктории Палата Лордов в 1843 году созвала комиссию судей, чтобы сузить определение понятия «невменяемости». Новое определение стало известным как «Правило М’Нагтена». В соответствии с ним, человек признавался невиновным по причине невменяемости, если он действовал под влиянием такого дефекта разума и душевной болезни, что не понимал природу и характер деяния; а если и знал, то не понимал, что такое деяние противоправно.
В США это правило вылилось в когнитивный тест без какого-либо формализованного морального измерения: знал ли обвиняемый, что он делал, совершая преступление, и может ли он отличить правомерное от противоправного?
В соответствии с «Правилом М’Нагтена», к примеру, если женщина стреляет в мужчину, понимая, что убивает человека и зная, что стрельба в людей незаконна, суд признает её вменяемой и виновной, даже если она страдает бредовыми расстройствами. Например, она может быть уверенной, что преследуемый ею человек — носитель смертельного вируса с Марса, который уничтожит всё человечество, если она не убьёт его. Она «понимает», что убийство людей — противозаконно, поэтому она виновна, даже если считала, что её специфическое деяние положительно с точки зрения морали.
Тест М’Нагтена приняли почти все юрисдикции США. В 1881 году, когда Шарль Гито выстрелил в президента Джеймса Гарфилда, государственный обвинитель во время процесса приравнял невменяемость к недостатку ума. В своём последнем доводе он заявил: «Тяжело, очень тяжело представить себе человека с каким бы то ни было уровнем развития интеллекта, который не может понять, что в главу великой конституционной республики нельзя стрелять как в собаку».
Если человек кого-то убивает и знает, что стрельба в людей незаконна, суд в США признает его вменяемым и виновным, даже если человек страдает бредовыми расстройствами. Например, уверен, что убитый — носитель смертельного вируса с Марса.
Гито, который явно был не в здравом уме, но на «достаточном уровне развития ума», был признан виновным и повешен.
Юрист против психиатра
Суды оставались глухими к медицинской экспертизе, даже когда психиатрия и психология начали привносить новое в понимание душевных расстройств. Голландский терапевт XVI века Иоганн Вейер пытался оспорить Саксонский кодекс 1572 года в той части, где говорится о лечении невменяемого состояния: врач жаловался, что закон не отражает реалий душевного расстройства. В ответ суд отписался: «Вейер не юрист, а терапевт — следовательно, его взгляд на соотношение между душевной болезнью и нарушениями статутного права не имеют никакого значения».
Примерно через 400 лет, в 1950 году, расхождение между правовым определением невменяемости и психиатрическими реалиями душевных расстройств всё продолжались; судья Верховного Суда США Феликс Франкфуртер называл патологическими «процессы, которые привели к возрастанию конфликта между так называемыми правовой и медицинской невменяемостью».
А почти через 40 лет Кьяра Туль напишет: «Правовое определение невменяемости в контексте уголовной ответственности остаётся слишком статичным, спрятанным от влияния сегодняшней медицинской теории и достижений в этой сфере».
Современное правовое определение невменяемости не соответствует веяниям психиатрии. Это — чистой воды творение юриспруденции, ничего общего не имеющее с психиатрией и науками о мозге и поведении. Как писал в 1943 году в своей книге «Сознание, медицина и человек» Грегори Зильбург, «за исключением непоправимых, пускающих слюну, безнадёжных психически-больных с затянувшейся болезнью, а также больных с наследственной умственной отсталостью — которые изредка совершают убийства или могут их совершить — подавляющее большинство и, возможно, все убийцы знают, что они делают, понимают природу и характер своих деяний, а также их последствия. Поэтому с юридической точки зрения, таких людей считают вменяемыми, независимо от мнения каких-либо психиатров».
Несоответствие законам психиатрии создаёт впечатление, будто психиатры и психологи ненадёжны, или что душевное расстройство — вещь в чистом виде субъективная.
Как сказал в 1998 году психиатр Томас Гутхайль из Гарвардской медицинской школы, «Показания психиатров затрагивают соответствие правовым критериям в делах, где поднимается вопрос невменяемости, а не душевного расстройства». В книге «Об ответственности» 1996 года, федеральный судья Ричард Лоуэлл Нюгор писал: «Имея в распоряжении данные современной психиатрии и психологии, назначенные судом эксперты, которые должны свидетельствовать о психическом состоянии, не могут сформулировать точные и научные определения, которые бы соответствовали косным юридическим терминам… На процессах, на которых коллегия присяжных должна решить судьбу обвиняемого, показания экспертов противоречивы. Итог — „битвы экспертов“, которые почти всегда гарантируют произвольные результаты».
Судебных психологов часто разрывает между свидетельствованием, которое верно с юридической точки зрения и тем, которое правильно с нравственных позиций. Норман Финкель в своей работе «Защита невменяемых» 1985 года пишет следующее: «Присяжные часто или игнорируют, или толкуют по-своему и показания экспертов, и инструкции присяжным, руководствуясь вместо этого своим собственным, интуитивным пониманием или общим представлением о том, чем является вменяемость, а чем нет».
Присяжные часто игнорируют или искажают показания экспертов. Им кажется, они лучше знают, что такое вменяемость.
С этим подходом возникает уже упомянутая проблема: мы пытаемся измерить грубость преступления через уровень нашего возмущения им. Когда действие ужасающе, мы вменяем преступнику злое намерение, не принимая во внимание его душевное состояние. Это открывает широкий простор для предвзятости и нравственного порицания, делает судебный процесс актом возмездия. В деле Йозелин Ортега, суд присяжных не принял довод защиты о невменяемости няни, которая заколола насмерть двух детей, бывших под её присмотром.
Если присяжные не проявляют эмпатию в отношении обвиняемого, возможно, из-за этнических, расовых, гендерных, или социальных различий, если они боятся обвиняемого (возможно, по тем же самым основаниям), и если уголовное деяние шокирует их — маловероятно, что они оправдают человека, независимо от того, какое душевное или бредовое расстройство, либо другое иррациональное поведение было у подсудимого в момент совершения преступления. Отчасти такие вещи объясняют неуверенность адвокатов в вопросе, надо ли использовать невменяемость при выстраивании защиты. Среди заключённых в США около 15% — с серьёзными психическими расстройствами.
Невменяемость для богатых, наказание для бедных
Исследования показывают существенное расовое и экономическое неравенство в американской системе правосудия, и вопрос невменяемости — не исключение. Обвиняемым из низших слоёв общества бесплатно назначают адвокатов, но при этом не гарантируют специалистов с достаточным опытом, в том числе в ведении соответствующих дел, или адекватными ресурсами для подготовки и ведения дела. Адвокаты по назначению, как правило, перегружены делами и плохо финансируются. В 2013 году, отчёт НКО «The Sentencing Project» перед Комитетом ООН по правам человека пришёл к следующему выводу:
В 2013 году, отчёт НКО «The Sentencing Project» перед Комитетом ООН по правам человека пришёл к следующему выводу:
«В Соединённых Штатах в действительности работают две системы правосудия; одна предназначена для богатых людей, а другая — для бедных и меньшинств».
И здесь мы сталкиваемся с другими факторами, из-за которых чернокожих в США арестовывают, обвиняют и приговаривают к суровым наказаниям непропорционально в сравнении с белыми людьми. Как писала в 1995 году Хава Виллаверде, «общие показатели ареста чернокожих были в четыре раза выше, чем у белых, а количество арестов за убийство — в 10 раз выше, чем у белых».
Более того, в 1982 году криминолог Альфред Блумстейн выяснил, что «черным мужчинам в возрасте 20 лет избирают меру пресечения в виде заключения под стражу как минимум в 25 раз чаще, чем в целом среди населения». Кроме того, чернокожих подсудимых чаще представляют адвокаты по назначению, чем частники. НКО «Mental Health America» высказала следующую позицию по этому вопросу: «Невменяемость в качестве одного из средств защиты используется недостаточно часто из-за общего недофинансирования уголовных адвокатов для бедных слоёв населения. У перегруженных защитников по назначению, которым к тому же и недоплачивают, нет ни времени, ни опыта, который позволил бы им полностью выяснить, можно ли использовать положение о невменяемости в суде. К тому же, у них нет ресурсов, чтобы нанять такого эксперта по психическому здоровью, чьё мнение будет значимым для выстраивания защиты».
У перегруженных защитников по назначению, которым к тому же и недоплачивают, нет ни времени, ни опыта, который позволил бы им полностью выяснить, можно ли использовать положение о невменяемости в суде. К тому же, у них нет ресурсов, чтобы нанять такого эксперта по психическому здоровью, чьё мнение будет значимым для выстраивания защиты».
Гораздо быстрее, а часто и надёжнее, использовать показания психиатров, чтобы заключить досудебную сделку с прокурором в надежде на более мягкий приговор. Многие обвиняемые, которые даже соответствуют юридическому определению невменяемости, не используют это средство защиты в суде. Вместо того, чтобы рисковать таким ненадёжным доводом при серьёзных обвинениях, они дают признательные показания, чтобы снизить срок — и часто это приводит к пожизненным заключениям, а то и смертной казни.
Получается, что человек, не имея моральной вины по причине психического заболевания, признаёт себя виновным, вместо того, чтобы ходатайствовать о невменяемости. А сам приговор подвергает обвиняемых моральному осуждению за действия, которые они не осознавали.
А сам приговор подвергает обвиняемых моральному осуждению за действия, которые они не осознавали.
Кроме того, оправдательное решение из-за невменяемости, в отличие от приговора к тюремному заключению, должно обеспечить «такое индивидуальное лечение, которое даст каждому реальную возможность излечиться или улучшить своё психическое состояние», как в 1960 году говорил врач-адвокат Мортон Бирнбаум.
Человека, которого признали невменяемым, освободят, когда он больше не будет психически болен и не будет представлять опасность для других. Кроме того, по американскому законодательству неконституционно держать такого человека на лечении на период больший, чем на который бы его осудили в случае признания психически здоровым.В итоге, сроки заключения при вынесении решения о невменяемости, могут стать короче чем в случае осуждения за преступление.
Что можно сделать для того, чтобы суды не отказывались признавать людей невменяемыми? Надо изменить дефекты в судебном процессе.
Есть очевидные предписания: все обвиняемые должны иметь равный доступ к защите, т. е. право на адекватное финансирование услуг государственного защитника, у которого будет меньше дел в обороте и больше денег для проведения расследования и оценки психического здоровья. Должны быть четкие стандарты компетентности для адвокатов, занимающихся защитой невменяемых, так же, как и для адвокатов, которые расследуют дела, связанные со смертной казнью. Надо установить более высокие стандарты для тех, кто проводит судебно-психиатрическую экспертизу. Такие дела должна решать коллегия из трёх судей, а не суд присяжных. Это уменьшило бы предвзятость и эмоциональную составляющую, снизило бы жажду мести, когда на психическое состояние подсудимого никто не обращает внимания.
е. право на адекватное финансирование услуг государственного защитника, у которого будет меньше дел в обороте и больше денег для проведения расследования и оценки психического здоровья. Должны быть четкие стандарты компетентности для адвокатов, занимающихся защитой невменяемых, так же, как и для адвокатов, которые расследуют дела, связанные со смертной казнью. Надо установить более высокие стандарты для тех, кто проводит судебно-психиатрическую экспертизу. Такие дела должна решать коллегия из трёх судей, а не суд присяжных. Это уменьшило бы предвзятость и эмоциональную составляющую, снизило бы жажду мести, когда на психическое состояние подсудимого никто не обращает внимания.
Но в первую очередь надо изменить само понятие «невменяемости». Его надо привести в соответствие с психиатрическими реалиями и возвратить к своим моральным и этическим корням. Те, чьё преступное деяние — результат иррационального бреда или психического заболевания, а не плохого характера или стремления к личной выгоде, не должны быть объектом осуждения и воздаяния.
В общем и целом, обвинять и наказывать тех, чьё душевное состояние не позволяет понять, что они делают аморальные поступки — значит посягать на совесть и размывать моральные основы уголовно-правовой системы. Особенно в ситуации, когда бедняки и «цветные» несоизмеримо чаще оказываются на скамье подсудимых.
_______________________________________
Источник: “What can be done to rehabilitate the insanity defence?” by Sam Haselby
- Право.ru
Как общаться с близким, у которого психическое расстройство: 9 простых правил
Разум и чувства
Как общаться с близким, у которого психическое расстройство: 9 простых правил
Ника Голикова
5 апреля 2019 18:29
Автор фильма «Любовь во времена антидепрессантов» Пол Галлаш уже больше 20 лет заботится о маме: ей диагностировали психическое расстройство, когда Полу было всего семь. Он был рядом, когда мама отказывалась лечиться, забывала покормить детей, обижала близких. Пол поделился с «Афишей Daily» правилами, которые помогают ему и маме все это время.
Он был рядом, когда мама отказывалась лечиться, забывала покормить детей, обижала близких. Пол поделился с «Афишей Daily» правилами, которые помогают ему и маме все это время.
На диагноз можно отреагировать совершенно по-разному — и это нормально
Когда все началось, мне было семь лет. Примерно тогда же я узнал о депрессии мамы — и почувствовал облегчение, потому что она долгое время вела себя странно.
Нам с сестрой порой было очень страшно: мы жили в каком‑то хаосе, а после того как врачи поставили маме диагноз, поняли, что у этого хаоса есть имя — психическое расстройство. Это помогло нам осознать происходящее.
В какой‑то момент я начинал понимать, что находиться рядом с мамой больше небезопасно. И это было своего рода испытанием. Я хотел доверять ей и иметь с ней крепкие семейные отношения, но в то же время я должен был заботиться о себе и защищаться, когда это требуется.
Если человек отказывается лечиться, попытайтесь понять его
В начале болезни мама была категорически против лечения. Уже в подростковом возрасте я хотел сделать все, чтобы прекратить ее маниакальные эпизоды. И я недоумевал, почему она отказывалась лечиться, но когда стал старше, понял ее скепсис по отношению к лекарствам и всему остальному.
Уже в подростковом возрасте я хотел сделать все, чтобы прекратить ее маниакальные эпизоды. И я недоумевал, почему она отказывалась лечиться, но когда стал старше, понял ее скепсис по отношению к лекарствам и всему остальному.
Лекарства сильно влияют на ваш мозг, меняют ваши чувства, отношение к семье, жизни и детям. Сложно принять это, ведь ты фактически становишься другим человеком. Я думаю, самое главное здесь — выслушать человека и попробовать понять, чего именно он боится. И всячески поддерживать.
Например, мама долгое время ходила на сеансы с психотерапевтом, и в один момент я понял, что даже не знаю его и не понимаю, могу ли я доверить ему свою мать. Это неправильно. Люди часто надеются, что если их близкие ходят в больницу, то рано или поздно все снова будет хорошо. Мне кажется, если вы действительно заботитесь о человеке, вам необходимо поговорить с теми, кто пытается вылечить его.
Еще необходимо общаться между собой. Нельзя думать, что терапии с врачами достаточно — это не так. Мы с сестрой постоянно разговаривали с мамой, давали понять ей, что мы рядом. Это помогает выяснить, что лежит в основе ее проблем.
Мы с сестрой постоянно разговаривали с мамой, давали понять ей, что мы рядом. Это помогает выяснить, что лежит в основе ее проблем.
Когда моя мама начала принимать лекарства, она стала очень депрессивной: например, ей не нравился город, в котором мы живем, потому что в нем было слишком много бетонных зданий; ей не нравилось водить машину; ей не нравилась еда. Я бы мог сказать ей, что она сумасшедшая, поэтому все так воспринимает. Но я, конечно, этого не делал. Я понял: ее может разозлить что угодно, поэтому иногда просто внимательно слушал ее и пытался успокоить, а иногда искренне соглашался с ней. Тогда она понимала, что я на ее стороне.
Злитесь не на близкого, а на его болезнь
Я много раз злился на мать. Когда я был подростком, а она еще отказывалась принимать лекарства, мы часто ругались. Мама могла просто выбросить меня из машины в центре города, потому что мы сильно поссорились и просто не могли находиться рядом.
Когда я осознал ее диагноз, ко мне пришло принятие. Я научился прощать не потому что так нужно, а потому что действительно хотел этого. Понял, что когда она причиняет мне боль, это делает не моя мама, а ее болезнь. Но я уверен, что нельзя просто прощать и молчать об этом. Когда она делала мне больно, я всегда говорил о том, что чувствую. Это помогает понять, что человек ранит вас не намеренно.
Я научился прощать не потому что так нужно, а потому что действительно хотел этого. Понял, что когда она причиняет мне боль, это делает не моя мама, а ее болезнь. Но я уверен, что нельзя просто прощать и молчать об этом. Когда она делала мне больно, я всегда говорил о том, что чувствую. Это помогает понять, что человек ранит вас не намеренно.
Научитесь признавать вину и нести ответственность
Мне кажется, психологи, которые пытаются внушить обеим сторонам, что никто не виноват, — не правы. Человек, обидевший своих родственников и детей, не может быть полностью не виноват. Если он действительно будет считать, что в этом нет его вины, он не сможет осознать, что с ним что‑то не так.
Я против обиды, но я за осознание вины. Это касается всех, в том числе тех, кто борется с психическими заболеваниями. В фильме есть эпизод, где моя мама разговаривает с психологом, и он пытается помочь ей думать о себе как о маленьком невинном ребенке. Но ведь это не так, она не ребенок, она взрослая женщина, которая совершила ошибки.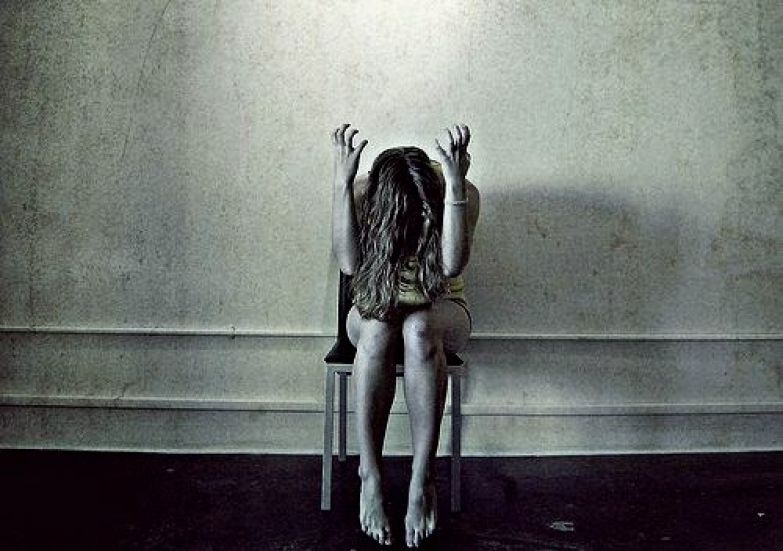 И единственный способ преодолеть, переболеть эти ошибки — признать их и взять на себя ответственность.
И единственный способ преодолеть, переболеть эти ошибки — признать их и взять на себя ответственность.
Это работает и в обратную сторону: если я знаю, что сделал что‑то неправильное по отношению к ней, я объяснюсь и извинюсь.
Иногда надо дать человеку выплеснуть гнев — и постараться не принимать это близко к сердцу
Важно понимать, что человек с психическим заболеванием порой ведет себя асоциально. Очень трудно по-настоящему любить того, кто переживает подобное состояние. Поэтому, мне кажется, лучшее, что вы можете сделать — игнорировать вспышки гнева. В прошлом моя мама говорила мне столько ужасных вещей, что сложно себе представить. Если бы я все это принимал за чистую монету, я бы уже перестал общаться с ней и навсегда ушел из дома.
Будьте более терпеливыми: это сложно, но если в такие моменты и вы потеряете контроль над собой, ситуация может обернуться плачевно. Дайте возможность вашему близкому выплеснуть свои эмоции, не принимая их близко к сердцу. И не забывайте даже в такие моменты говорить ему о том, как вы его любите.
И не забывайте даже в такие моменты говорить ему о том, как вы его любите.
Иногда бывает так, что именно вы становитесь причиной этих вспышек, потому что много времени проводите рядом с человеком, заботясь о нем. В моей ситуации так и было. Поэтому важно иногда давать близкому быть наедине с собой, понимать, что ему тоже нужно личное пространство.
Поделите домашние обязанности и отнеситесь с пониманием к тому, что ваш близкий может забыть о чем‑то
Долгое время никто из нас не хотел брать ответственность за бытовые дела: наш дом заполнялся грязной посудой, бельем и мусором. Это было ужасно, но со временем мы с сестрой пришли к тому, что должны помогать маме во многих вещах. Я научился ухаживать за собой и за другими, готовить, убирать дом и держать все в чистоте и порядке. Как и моя сестра.
Мама никогда не была особенно хороша в домашних делах: она могла забыть о том, что в холодильнике нет еды, и мы целыми днями ели шоколадное печенье. А иногда у мамы было столько энергии, что она могла убрать весь дом до идеальной чистоты. Но, конечно, чаще всего эти обязанности переходили ко мне и к моей сестре.
Но, конечно, чаще всего эти обязанности переходили ко мне и к моей сестре.
Найдите любимое дело для вас двоих — и цените приятные моменты, которые провели вместе
Нужно находить способы приятно проводить время с близкими людьми — мы же любим друг в друге наши лучшие качества.
Моя мама очень авантюрная женщина. Одно из моих самых счастливых воспоминаний из детства: мама забрала нас с сестрой из школы в середине дня и сказала, что мы едем кататься на лыжах. Это было безумное приключение, и мы очень ценили время, проведенное вместе.
Попытайтесь найти дела, которые ваши близкие действительно любят, и как можно чаще занимайтесь ими вместе.
У вас будет много трудных моментов в жизни, но вы переживете их гораздо проще, если будете вспоминать о моментах радости. К тому же это помогает осознать, как сильно вы их любите.
Не переживайте проблемы в одиночку — и обсуждайте трудности с другими родственниками
Мне очень помогли разговоры с сестрой, бабушкой и дедушкой. Мы все были очень близки в период, когда мама начала болеть. Я понимаю, что не у всех есть родственники, к которым можно обратиться, но нужно найти человека, сумеющего вас выслушать.
Мы все были очень близки в период, когда мама начала болеть. Я понимаю, что не у всех есть родственники, к которым можно обратиться, но нужно найти человека, сумеющего вас выслушать.
Детям я бы посоветовал обратиться к взрослым — например, к учителям в школе. Потому что для детей особенно важно иметь кого‑то, кому они могут полностью доверять, чтобы чувствовать себя защищенными в моменты, когда родители не могут обеспечить эту защиту. Важно, чтобы был человек, который объяснит, что их переживания важны, что все это — нелегко. В этом и заключается поддержка. Конечно, есть дети, которым приходится брать все бремя ответственности на себя, потому что им не к кому обратиться, и это печально.
И главное. Не забывайте о себе — живите
Нужно обязательно разделять заботу о близких и заботу о себе. Это две равноценно важные вещи в вашей жизни. Всегда помните об этом.
Я понимал, что должен делать и то, и другое. Поэтому, когда стал взрослым, иногда уезжал в командировки или путешествия, во время которых пытался поразмышлять о своей жизни. Конечно, я все равно беспокоился, но когда мне не нужно было заботиться о маме, у меня появлялось много свободного времени, чтобы сосредоточиться на себе.
Конечно, я все равно беспокоился, но когда мне не нужно было заботиться о маме, у меня появлялось много свободного времени, чтобы сосредоточиться на себе.
Сейчас я женился, у меня родился ребенок, и те обязанности, которые пришли вместе с появлением семьи, не менее важны, чем забота о маме. Я поговорил об этом с мамой, и она поняла меня. Рано или поздно должен был настать момент, когда она больше не сможет полностью опираться на меня, и я думаю, это естественная эволюция отношений. Нужно было прийти к этому. И мы это сделали.
Но это не история о побеге от одних обязанностей к другим, это связано с принятием моральной ответственности и за свою жизнь тоже. Моя мама и сейчас может всегда на меня рассчитывать, но она понимает, что теперь у меня еще больше ответственности.
Фильм австралийского режиссера Пола Галлаша «Любовь во времена антидепрессантов» покажут 6 апреля в рамках программы «Док Терапия» фестиваля Doker — в нем участвуют 50 лучших фильмов со всего мира.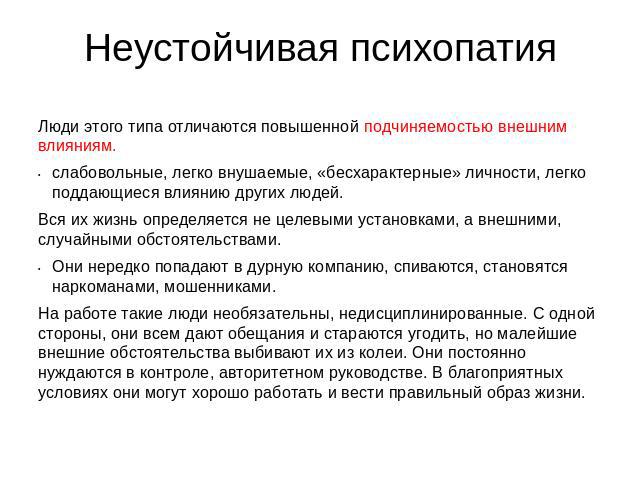 «Док Терапия» — это специальная секция, все обсуждения внутри нее пройдут с участием психологов. Подробности — на сайте фестиваля.
«Док Терапия» — это специальная секция, все обсуждения внутри нее пройдут с участием психологов. Подробности — на сайте фестиваля.
расскажите друзьям
теги
семьямедицинаобщениеобществокак житьпсихиатрия
Психические заболевания и насилие — Better Health Channel
Действия для этой страницы
Резюме
Прочитать полный информационный бюллетень- сообщество.
- Люди, живущие с шизофренией, чаще причиняют вред себе, чем другим.
- Поощряйте и поддерживайте людей, живущих с психическими заболеваниями, в получении доступа к эффективному лечению как можно раньше. Это важно для снижения возможного насилия среди людей, живущих с психическими заболеваниями.
Психическое заболевание иногда может быть связано с агрессивным или насильственным поведением. Но люди, живущие с психическим заболеванием и получающие эффективное лечение, не более агрессивны и опасны, чем остальное население. Люди, живущие с психическим заболеванием, с большей вероятностью причинят вред себе или пострадают, чем другие люди.
Люди, живущие с психическим заболеванием, с большей вероятностью причинят вред себе или пострадают, чем другие люди.
Психическое заболевание и насилие
Насилие не является симптомом психотического заболевания. Отношения между психическим заболеванием и насилием сложны. Исследования показывают, что существует небольшая связь между психическим заболеванием и насилием, если оно не связано с употреблением психоактивных веществ.
Психотические заболевания, такие как шизофрения, иногда могут быть связаны с агрессивным или насильственным поведением. Люди, живущие с шизофренией, не более агрессивны и опасны, чем остальное население, если они:
- получают эффективное лечение
- не злоупотребляют алкоголем или наркотиками.
Они чаще наносят вред себе, чем другим.
Существует несколько повышенная вероятность того, что человек, страдающий психическим заболеванием, может проявлять насилие, если он:
- не получают эффективного лечения
- ранее подвергались насилию
- злоупотребляли алкоголем или другими наркотиками
- испытывают активные психотические симптомы (и реагируют на галлюцинации или бред) они думают, что находятся в опасности)
- впервые испытывают психотические симптомы, или эти переживания незнакомы.

Люди, живущие с шизофренией, более склонны выражать свою агрессию, возбуждение или разочарование по отношению к себе, семье и друзьям, реже незнакомым людям.
Лечение психических заболеваний и предотвращение насилия
Насилие всегда неприемлемо. Чтобы предотвратить насилие, которое может быть связано с симптомами психического заболевания, поощряйте и поддерживайте людей в доступе к эффективному лечению как можно раньше.
Важно понимать, что психическое заболевание — это не выбор. Психическое заболевание может возникнуть у любого.
Преодоление агрессивного или насильственного поведения
Если человек, страдающий психическим заболеванием, становится агрессивным или склонным к насилию, некоторые рекомендации включают:
- Старайтесь сохранять спокойствие и говорите спокойным, четким и медленным голосом.
- Дайте человеку немного физического пространства.
- Избегайте конфронтации — иногда выйти из дома и подождать, пока все успокоятся, более продуктивно.

- Имейте план — знайте, кому вы позвоните, если агрессивное поведение продолжится или вы почувствуете, что существует риск причинения вреда человеку, себе или другим. Например, вы можете позвонить в кризисную группу по психическому здоровью или в полицию (000).
Где можно получить помощь
- Ваш врач общей практики
- Справочный центр SANE Тел. 1800 18 SANE (7263) (с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00 по восточному стандартному времени)
- Онлайн-чат с консультантом справочного центра SANE (работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00 по восточному стандартному времени).
- SANE Forums
- Lifeline Тел. 13 11 14 (круглосуточно, 7 дней)
- Телефон доверия для детей Тел. 1800 551 800 (круглосуточно, 7 дней)
- SuicideLine Victoria Тел. 1300 651 251 – для консультирования, кризисного вмешательства, информации и направления (круглосуточно, 7 дней)
- 1800Респект Тел. 1800 737 732 (круглосуточно, 7 дней)
- Факт против мифа: психические заболевания и насилие , SANE Australia.

- Шизофрения, SANE, Австралия.
- Семьям, друзьям и опекунам , 2018, SANE Australia.
- Варшни М., Махапатра А., Кришнан В. и др. 2016, «Насилие и психические заболевания: какова правдивая история ?», Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 70, нет. 3, стр. 223–225.
Эта страница была подготовлена в консультации с и одобрена по:
Эта страница была подготовлена в консультации с и одобрена по:
Оставьте отзыв об этой странице
Была ли эта страница полезной?
Дополнительная информация
Заявление об отказе от ответственности
Содержание этого веб-сайта предоставляется только в информационных целях. Информация о терапии, услуге, продукте или лечении никоим образом не одобряет и не поддерживает такую терапию, услугу, продукт или лечение и не предназначена для замены рекомендаций вашего врача или другого зарегистрированного медицинского работника. Информация и материалы, содержащиеся на этом веб-сайте, не предназначены для использования в качестве исчерпывающего руководства по всем аспектам терапии, продукта или лечения, описанным на веб-сайте. Всем пользователям настоятельно рекомендуется всегда обращаться за советом к зарегистрированному специалисту в области здравоохранения для диагностики и ответов на свои медицинские вопросы, а также для выяснения того, подходит ли конкретная терапия, услуга, продукт или лечение, описанные на веб-сайте, в их обстоятельствах. Штат Виктория и Министерство здравоохранения не несут никакой ответственности за использование любым пользователем материалов, содержащихся на этом веб-сайте.
Информация и материалы, содержащиеся на этом веб-сайте, не предназначены для использования в качестве исчерпывающего руководства по всем аспектам терапии, продукта или лечения, описанным на веб-сайте. Всем пользователям настоятельно рекомендуется всегда обращаться за советом к зарегистрированному специалисту в области здравоохранения для диагностики и ответов на свои медицинские вопросы, а также для выяснения того, подходит ли конкретная терапия, услуга, продукт или лечение, описанные на веб-сайте, в их обстоятельствах. Штат Виктория и Министерство здравоохранения не несут никакой ответственности за использование любым пользователем материалов, содержащихся на этом веб-сайте.
Отзыв от: 11-10-2019
7 терминов, которых следует избегать при разговоре о психических заболеваниях
Вы можете услышать, как кто-то небрежно использует такие слова, как «сумасшедший», «ненормальный» или «психотик». Эти термины явно оскорбительны при описании человека, живущего с психическим заболеванием. И они также могут быть вредными, когда говорят о чем-то другом в этих терминах. Например, назвать что-то, что кажется бессвязным, «шизофреническим».
И они также могут быть вредными, когда говорят о чем-то другом в этих терминах. Например, назвать что-то, что кажется бессвязным, «шизофреническим».
Некоторые из этих фраз явно неуместны, но есть и такие термины, о которых многие не знают, что они могут быть оскорбительными. По этой причине я даю своим друзьям и родственникам, а также близким пациентов, с которыми я работаю, список слов, которых следует избегать, говоря о психических заболеваниях. Хотя некоторые люди могут возражать или не возражать против некоторых из этих слов, рекомендуется всегда быть внимательным.
Вот семь терминов, которых следует избегать при разговоре о психических заболеваниях, и вместо них выбрать более подходящие альтернативы.
1. Не используйте: «Психическое заболевание» как собирательный термин
Вместо этого используйте: «Психические заболевания» или «Психическое заболевание»
Психическое заболевание — это широкий термин. Он не отражает того, с чем на самом деле имеет дело человек. Например, если вы говорите, что у кого-то «проблемы с сердцем», это на самом деле не дает много информации о том, через что он проходит. Есть много различных типов проблем с сердцем, и не все пациенты с проблемами сердца перенесли сердечный приступ.
Он не отражает того, с чем на самом деле имеет дело человек. Например, если вы говорите, что у кого-то «проблемы с сердцем», это на самом деле не дает много информации о том, через что он проходит. Есть много различных типов проблем с сердцем, и не все пациенты с проблемами сердца перенесли сердечный приступ.
Точно так же не все, у кого проблемы с психическим здоровьем, были склонны к суициду или депрессии. Существует множество различных проблем с психическим здоровьем. И два человека с одним и тем же клиническим диагнозом тоже могут проявлять себя по-разному. Таким образом, чтобы с уважением относиться к индивидуальному опыту людей, важно использовать язык, который также признает, что психические заболевания не одинаковы.
2. Не используйте: «Страдает психическим заболеванием», «страдает психическим заболеванием» или «является жертвой психического заболевания»Вместо этого используйте: «Жизнь с психическим заболеванием»
Наличие диагноза психического здоровья не обязательно является негативным моментом.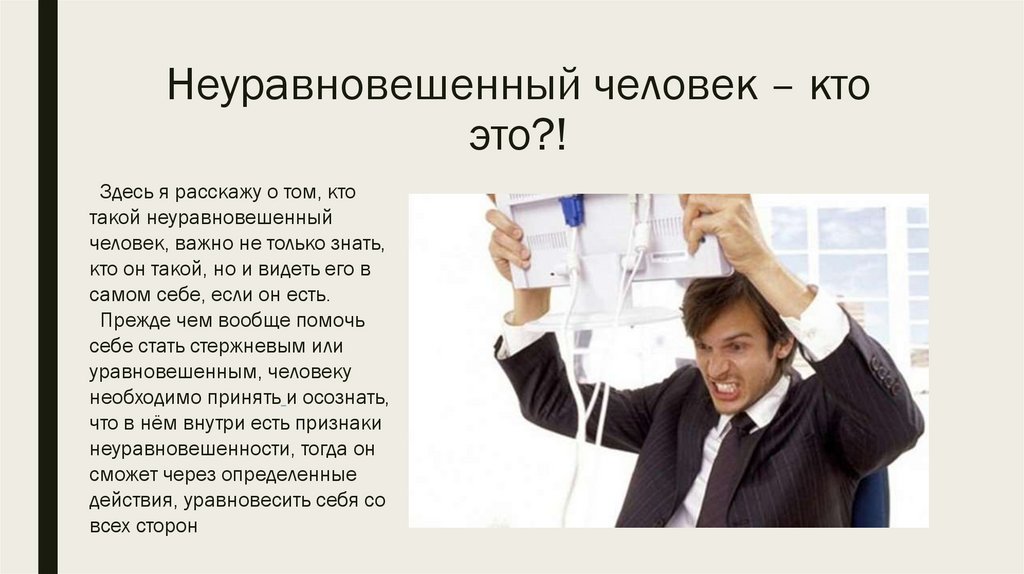 «Страдание» подразумевает, что кто-то нездоров и несчастен. Существует также несправедливое клеймо, изображающее психические заболевания как слабость. Люди с проблемами психического здоровья могут жить полноценной, здоровой жизнью. И существует широкий спектр методов лечения, поэтому есть много причин не терять надежды.
«Страдание» подразумевает, что кто-то нездоров и несчастен. Существует также несправедливое клеймо, изображающее психические заболевания как слабость. Люди с проблемами психического здоровья могут жить полноценной, здоровой жизнью. И существует широкий спектр методов лечения, поэтому есть много причин не терять надежды.
Некоторые люди с проблемами психического здоровья обнаруживают, что их опыт действительно изменил их жизнь к лучшему. Они могут быть более чуткими, более склонными к творчеству или лучше помогать окружающим. Мы бы никогда не сказали, что кто-то «страдает астмой» или «страдает диабетом». Мы бы сказали, что у них диабет или астма. Диагноз психического здоровья не должен толковаться более негативно, чем любое другое состояние здоровья.
3. Не используйте: «Психически больной» или «Психически больной»Вместо этого используйте: «Лицо с психическим заболеванием» или «Лицо с психическим заболеванием»
Люди с проблемами психического здоровья имеют гораздо больше сторон, чем их психические заболевания. Принять кого-то как личность в первую очередь не только более уважительно, но и чтить многие другие стороны этого человека, помимо его диагноза. Это называется использованием языка «первый человек».
Принять кого-то как личность в первую очередь не только более уважительно, но и чтить многие другие стороны этого человека, помимо его диагноза. Это называется использованием языка «первый человек».
Один из способов попрактиковаться в родном языке человека — представить, как бы вы хотели услышать, как кто-то другой говорит о вашем близком члене семьи или друге в той же ситуации. Изменение вашей точки зрения может помочь вам переосмыслить то, как вы думаете и говорите о людях с психическими заболеваниями и подобных стигматизированных субъектах
4. Не используйте: «Шизофреник, психотик, психически неуравновешенный, сумасшедший или сумасшедший»
Вместо этого используйте: «Лицо, живущее с шизофренией»; «Человек, страдающий психозом, дезориентацией или галлюцинациями»
Мы бы никогда не назвали кого-то «раковым» или «больным сердцем». Люди с проблемами психического здоровья несправедливо маркируются их состоянием здоровья.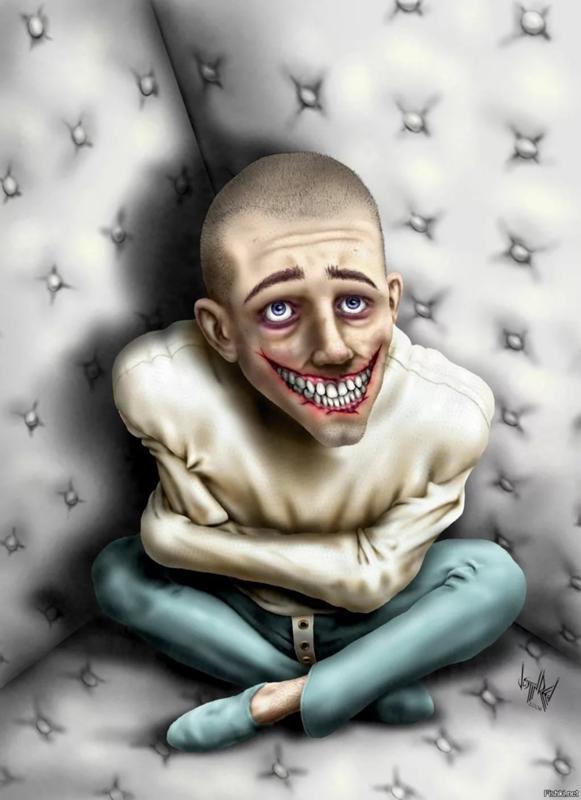 Люди есть люди, а не болезни. Это еще один пример языка «сначала человек».
Люди есть люди, а не болезни. Это еще один пример языка «сначала человек».
В повседневной беседе до сих пор часто можно услышать такие фразы, как «Какой сумасшедший водитель» или «Этот фильм был безумным». В дополнение к изменению того, как вы говорите о людях, бросьте себе вызов и используйте эти альтернативные слова при описании вещи или ситуации.
5. Не использовать: «Нормальное поведение»Вместо этого используйте: «Обычное поведение» или «типичное поведение»
Нет четкого определения, что такое «нормальный». И это может заставить других чувствовать себя обиженными или защищаться, если их опыт классифицируется как не подпадающий под категорию «нормальных». Использование таких слов, как «обычный» или «типичный», звучит менее критично. (Не говоря уже о том, что каждый из нас так или иначе нетипичен.)
6. Не используйте: «злоупотребление психоактивными веществами», «наркоман» или «пользователь»
Вместо этого используйте: «Расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ»
Те, кто борется со злоупотреблением наркотиками или алкоголем, не просто выбирают «злоупотребление» веществом. . Часто к такому поведению приводят нейробиологические факторы и проблемы с эмоциональным здоровьем. Называя это расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, мы принимаем эти другие факторы. Это устраняет часть вины, связанной с термином «злоупотребление психоактивными веществами», и является небольшим, но важным способом предложить свою поддержку тем, кто выздоравливает от зависимости.
. Часто к такому поведению приводят нейробиологические факторы и проблемы с эмоциональным здоровьем. Называя это расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, мы принимаем эти другие факторы. Это устраняет часть вины, связанной с термином «злоупотребление психоактивными веществами», и является небольшим, но важным способом предложить свою поддержку тем, кто выздоравливает от зависимости.
Вместо этого используйте: «Умер в результате самоубийства» или «погиб в результате самоубийства»
Когда кто-то считает, что покончить с жизнью — действительно лучшее решение, он, скорее всего, не видит ясной реальности вокруг себя. Это симптом некоторых психических заболеваний. Сказать, что кто-то «совершил» самоубийство, предполагает вину. Мы бы никогда не обвинили кого-то в смерти от рака. Таким образом, мы должны использовать язык, который избегает обвинений и стыда, если чьи-то проблемы с психическим здоровьем привели к самоубийству.
Внесение этих языковых корректировок в то, как мы говорим о психических заболеваниях, может также побудить людей чувствовать себя более комфортно, ведя открытый разговор и обращаясь за помощью при суицидальных мыслях или самоповреждающем поведении.
Борьба со стигмой
Мы все можем и должны участвовать в важной работе по дестигматизации психического здоровья. В то время это может показаться мелочью, но каждый разговор имеет значение, когда речь идет об улучшении того, как мы говорим о психических заболеваниях и о том, как мы создаем пространство для того, чтобы каждый чувствовал свою поддержку и поддержку.
Make It OK — это кампания HealthPartners, направленная на устранение стигмы, связанной с психическими заболеваниями. Он предлагает инструменты и ресурсы для практики, как вести позитивный и поддерживающий разговор. Вы также можете. Подпишите обязательство и выступите против стигмы.
Узнайте больше о том, как мы можем помочь с проблемами психического здоровья.



