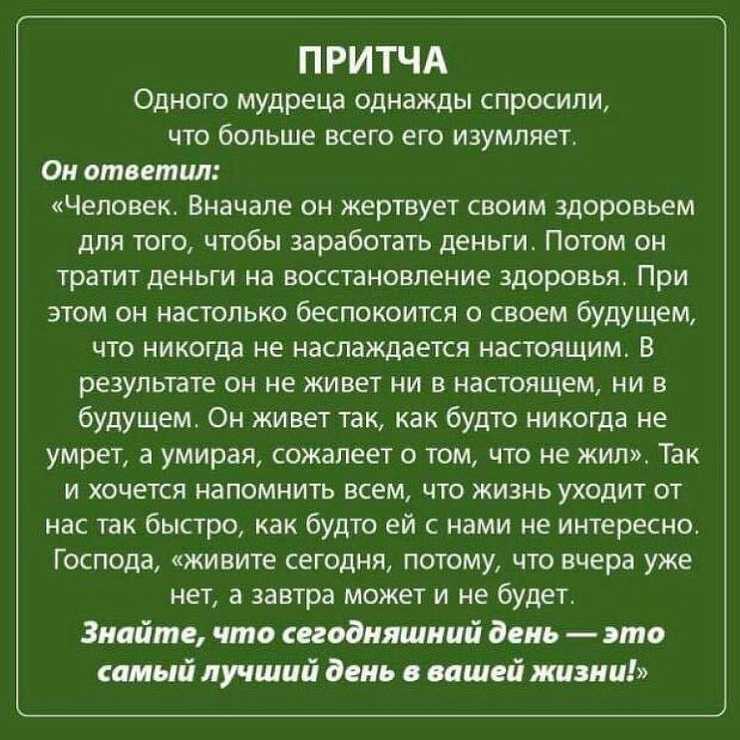Притчи Ф. Кафки как литературный феномен
Литература народов стран зарубежья | Филологический аспект №3 (35) Март, 2018
УДК 81`4
Дата публикации 29.03.2018
Щербина Сергей Юрьевич
канд. филол. наук, доцент кафедры РГФ (П), Тихоокеанский госуниверситет, РФ, г. Хабаровск, [email protected]
Булавина Ангелина Сергеевна
студентка 4 курса ФФПиМК, кафедры РГФ, Тихоокеанский госуниверситет, РФ, г. Хабаровск, [email protected]
Аннотация: В данной статье на материале отдельных произведений анализируется творчество писателя Франца Кафки, который открыл новую эпоху в истории развития жанра притчи и внёс неоценимый вклад в его исследование. Ф. Кафка хорошо известен как очень оригинальный автор с собственным неповторимым стилем, своеобразие которого отчетливо просматривается в самых разных его произведениях. В том числе и рассматриваемого в статье жанра притчи, что заставляет исследователей его творчества постоянно возвращаться к особенностям стиля писателя. Помимо средств иносказательности здесь следовало бы обратить внимание на элементы лиричности. Посредством анализа конкретного произведения авторы статьи пытаются выявить некоторые новаторские черты писателя.
Помимо средств иносказательности здесь следовало бы обратить внимание на элементы лиричности. Посредством анализа конкретного произведения авторы статьи пытаются выявить некоторые новаторские черты писателя.
Ключевые слова: тип текста, жанр, притча, кафкианский, жанровые особенности, род литературы
Shcherbina Sergei Juryevich
candidate of Science, assistant professor, Pacific State University, Russia, Khabarovsk
Bulavina Angelina Sergeevna
4th year student, Pacific State University, Russia, Khabarovsk
Abstract: The article deals with creative work of Franz Kafka, who opened a new epoch in the history of development of the literary genre of parable, and made a great contribution to its research. Kafka is well-known as quite a peculiar author with his own individual inimitable style. His peculiarity can be traced back to all of his works, including the parable. This makes the researchers who study Kafka’s works constantly look back at their research and study the peculiarities of his style from a new angle.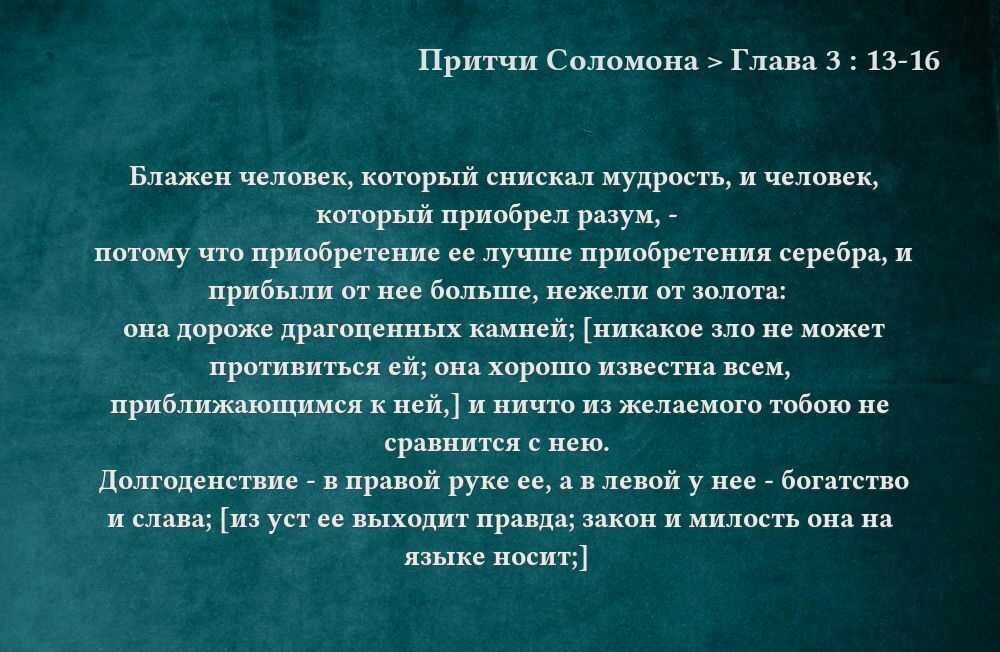 Besides means of allegoricality, attention should be drawn to certain lyrical aspects of his works. Throughout the work analysis the authors of the article try to discover the writer’s innovative features.
Besides means of allegoricality, attention should be drawn to certain lyrical aspects of his works. Throughout the work analysis the authors of the article try to discover the writer’s innovative features.
Keywords: text type, genre, parable, Kafkaesque, genre characteristics, form of literature
Немецкоязычный автор Франц Кафка не только исследовал жанр притчи, но и создал индивидуальный и неповторимый стиль написания произведений этого типа. Сегодня ученые-лингвисты говорят о романе-притче «Процесс», «Замок», «Превращение». Безусловно, благодаря творчеству Кафки толкование литературного жанра «притча» обрело более конкретную направленность. Теперь говорят не только о «поучительных кратких историях», но и о «иносказательных образах», помогающих понять действительность и оценить суть вещей иначе, рассмотрев их с другого ракурса. Кафка не только внёс в науку новое представление об этом жанре, но и создал свой литературный мир с особой атмосферой, образами, действующими лицами и ситуациями.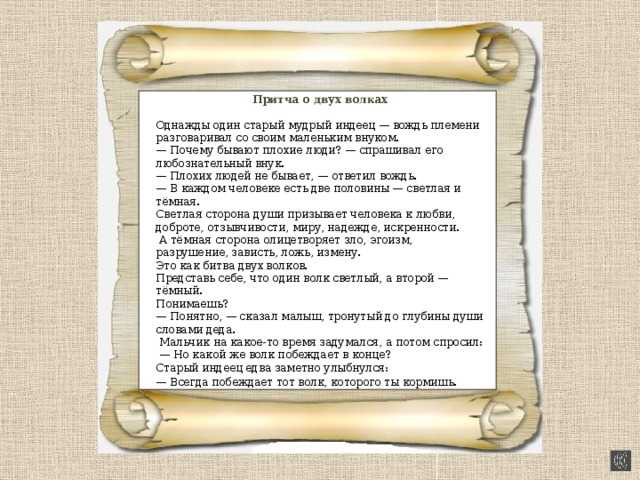
Значение понятия «кафкианский»
То, что творчество Ф. Кафки стоит порой отдельно от того или иного направления в литературе и даже не является характерным для эпохи, в которую довелось жить и творить автору и что стиль писателя выделяют как совершенно не похожий ни на что и единственный в своём роде, доказывает и следующий факт. В немецко- и англоязычных словарях сегодня можно встретить понятие «кафкианский». В зарубежных источниках не составит труда найти слово „Kafkaesque“ (нем. «Kafkaesk») и с ним всё предельно ясно: что в английском, что в немецком языке оно является прилагательным и описывает «репрессивные или кошмарные качества» («Characteristic or reminiscent of the oppressive or nightmarish qualities of Franz Kafka’s fictional world.»; Oxford Dictionary). В отечественных словарях для определения этих качеств есть слово «кафкианский», что является синонимом к таким словам, как «мрачный», «угнетающий» или же имеет значение «относящийся к творчеству Кафки».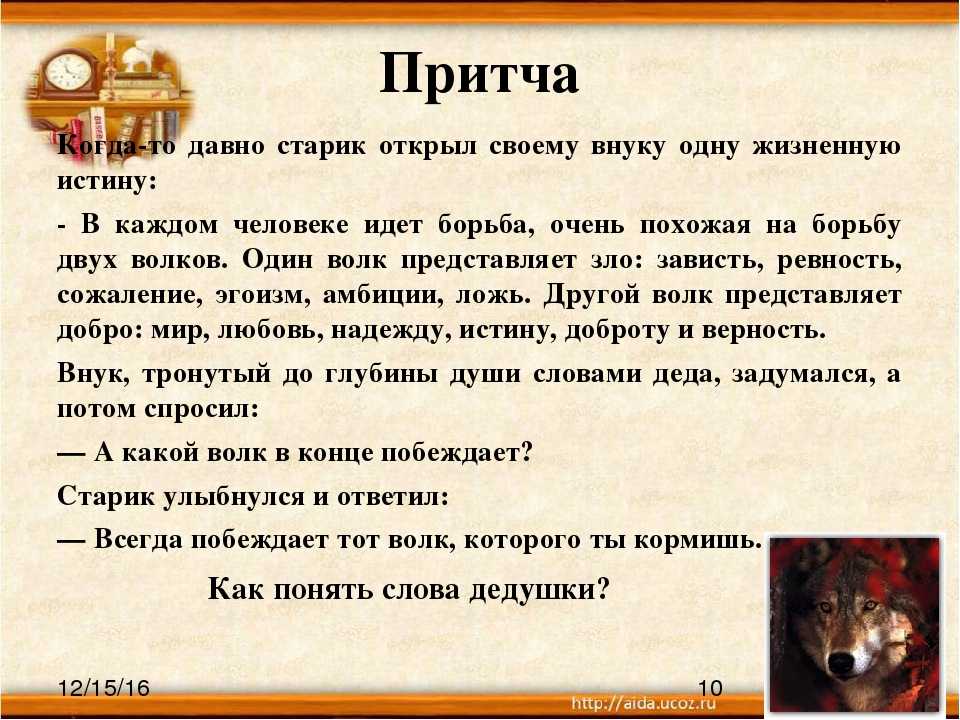 Но помимо этого слова некоторые источники также указывают на термин «кафкеск» (сочетание слов «Кафка» и «гротеск»), что по сути является калькой с английского «Kafkaesque» (немецкое написание «kafkaesk»).
Но помимо этого слова некоторые источники также указывают на термин «кафкеск» (сочетание слов «Кафка» и «гротеск»), что по сути является калькой с английского «Kafkaesque» (немецкое написание «kafkaesk»).
Экстралингвистические характеристики произведений Ф. Кафки
Невозможно понять произведение, не ознакомившись с биографией писателя. Загадочная личность Кафки занимает особое место как среди людей искусства XX века, так и в плеяде немецких авторов в целом.
Немецкоязычный автор еврейского происхождения Франц Кафка родился в 1883 году в Праге. С 1901 по 1906 он изучал германистику и юридическое дело, достигнув звания доктора юридических наук. Кафка был непосредственно связан с бюрократической машиной и, соответственно, хорошо знал все принципы её функционирования, что нашло отражение в произведениях писателя. Мотив гнетущей бюрократии проходит красной нитью по всему творчеству автора. Из-за болезни, которая начала развиваться в 1917 году, Францу Кафке пришлось за 2 года до смерти оставить свою работу.
Для более глубокого понимания мыслей, выраженных Кафкой в литературе, следует обратить внимание скорее на психологический облик личности, нежели на род его деятельности. «Кафка ощущал себя одиноким и непонятым «отшельником» (Einzelgänger)…» [1]. Так в одном из справочников описывается позиция писателя в социуме и восприятие им окружающего мира. Отношение Кафки к своему же творчеству можно понять из следующего факта его биографии: свои литературные труды он завещал сжечь. До нас наследие писателя дошло только благодаря его товарищу – Максу Броду, который после смерти Кафки опубликовал его произведения, несмотря на то, что это противоречило воле автора. О личности Франца Кафки написано множество трудов, в том числе и Максом Бродом («Франц Кафка. Узник абсолюта»), но даже опираясь на вышеперечисленные факты можно понять, что это был непростой и загадочный человек. Таковыми являются и его произведения, представляющие собой многозначный ребус.
Анализ притчи
Чтобы понять, что же именно делает притчи Кафки уникальным феноменом, проанализируем конкретное произведение этого автора и попытаемся выделить характерные черты стиля писателя.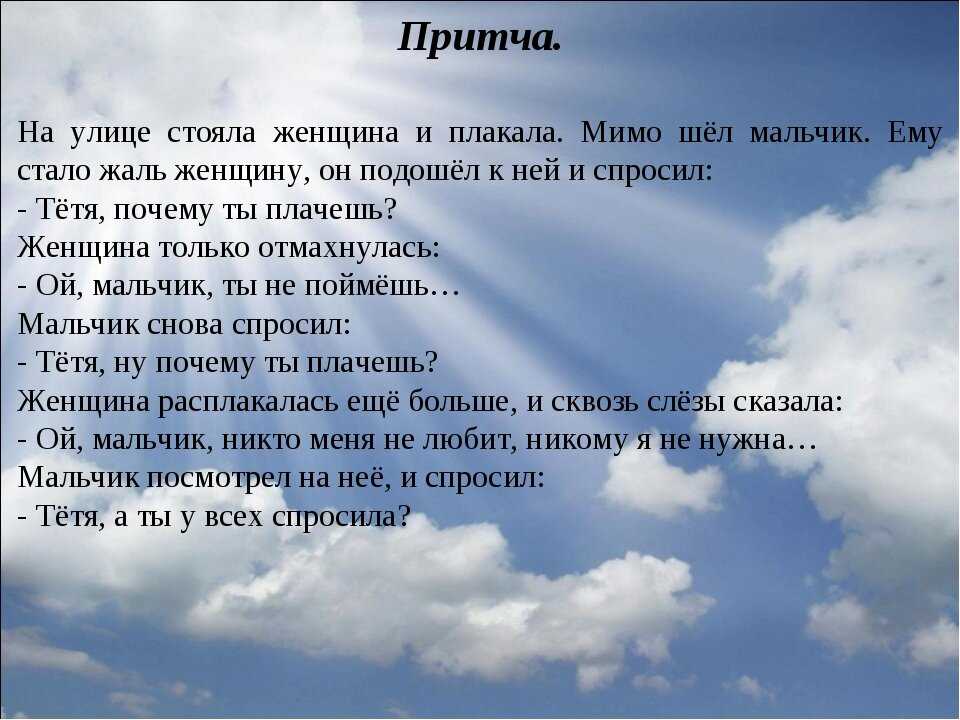
Притча «Отъезд» («Der Aufbruch»), которая известна в переводах других авторов под другими, синонимичными названиями «В дорогу» (И. Щербакова), «В путь» (Г. Ноткин) была написана в 1922 году, но опубликовала посмертно в 1936 году, наряду с некоторыми остальными произведениями, о чём уже говорилось выше. Известно, что произведения, которые были опубликованы при жизни автора, не снискали славу и не стали такими известными и изучаемыми, нежели те, которые Кафка завещал подвергнуть сожжению.
По своей структуре притча «Отъезд» (остановимся на этом переводе названия произведения) имеет все черты традиционной притчи. А именно, она состоит преимущественно из простых, зачастую эллиптических предложений («Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall…»). Время повествования – претеритум (Präteritum) – характерно для литературных рассказов (сказок, басен). Диалог между господином и слугой оформлен в прямую речь, а не через реплики – в целях экономии пространства.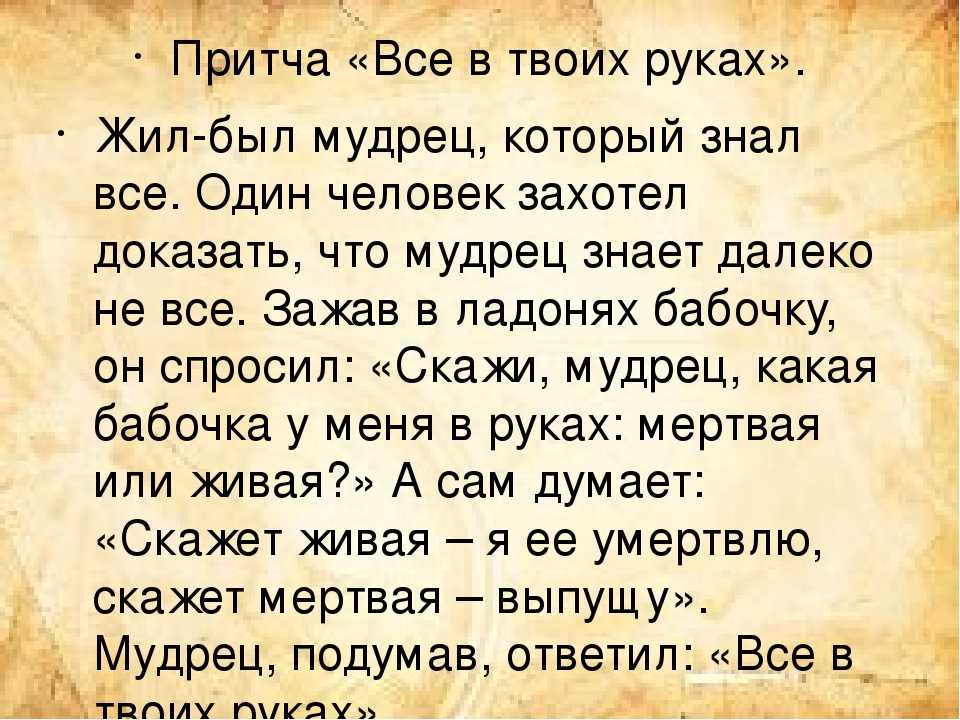 Отсутствует какая-либо вводная часть, читателя сразу вводят в повествование, не представляя главных героев и не описывая место, где происходит действие, ведь для притчи это совершенно не важно. Именно поэтому слово «слуга» («der Diener») сопровождается определённым артиклем, хотя это лишь первое упоминание о нём. Точно так же, как притче не требуется вводная часть, она может обойтись и без завершения. Анализируемая притча оканчивается последней репликой главного героя, в которой он оценивает свою будущую поездку как «поистине ужасную», при этом отмечает, что это к его же счастью («Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheuere Reise»). Примечательно, что, когда Макс Брод публиковал эту притчу, он завершил её именно на этом высказывании, т.к. считал, что самая важная мысль отражена в этом последнем предложении. Кафка же в изначальной версии расширил эту мысль, уточняя позицию слуги по этому поводу: для него дальняя поездка немыслима без съестных припасов. Тем самым автор хотел показать неспособность некоторых людей абстрагироваться от насущных проблем.
Отсутствует какая-либо вводная часть, читателя сразу вводят в повествование, не представляя главных героев и не описывая место, где происходит действие, ведь для притчи это совершенно не важно. Именно поэтому слово «слуга» («der Diener») сопровождается определённым артиклем, хотя это лишь первое упоминание о нём. Точно так же, как притче не требуется вводная часть, она может обойтись и без завершения. Анализируемая притча оканчивается последней репликой главного героя, в которой он оценивает свою будущую поездку как «поистине ужасную», при этом отмечает, что это к его же счастью («Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheuere Reise»). Примечательно, что, когда Макс Брод публиковал эту притчу, он завершил её именно на этом высказывании, т.к. считал, что самая важная мысль отражена в этом последнем предложении. Кафка же в изначальной версии расширил эту мысль, уточняя позицию слуги по этому поводу: для него дальняя поездка немыслима без съестных припасов. Тем самым автор хотел показать неспособность некоторых людей абстрагироваться от насущных проблем.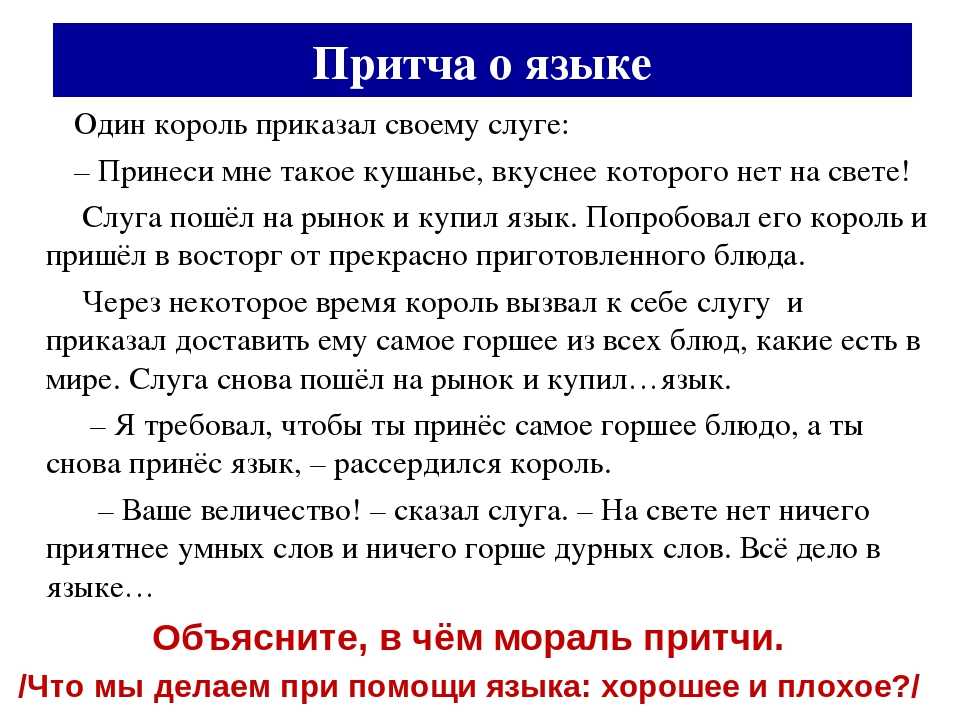 Таким образом, слуга противопоставлен своему господину в том, что не испытывает потребностей в духовном обогащении и не имеет стремлений познать невиданное, в то время как его господин отправляется в путь, чтобы оказаться как можно дальше от всего приземленного (das Irdische).
Таким образом, слуга противопоставлен своему господину в том, что не испытывает потребностей в духовном обогащении и не имеет стремлений познать невиданное, в то время как его господин отправляется в путь, чтобы оказаться как можно дальше от всего приземленного (das Irdische).
О том, в каком именно месте конкретного произведения заключается мораль, можно долго дискутировать. Интерпретаций притчи может быть великое множество, и каждый находит для себя ключевые слова, выступающие маяком к тому, чтобы сделать выводы из произведения. В силу того, что притчи, как правило, очень малы по объему, фактически в каждой фразе можно искать скрытый смысл, или, другими словами, то, что имелось в виду (das Gemeinte). Важную роль в притчах Кафки играет в большинстве случаев диалог. «Отъезд» не является исключением. Из разговора слуги с главным героем выясняется, что господин собирается уехать прочь из этого места, и в этом заключается его основная цель. Главная идея здесь – побег от реальности, что присуще многим членам общества (которые, по крайней мере, могут себе это позволить).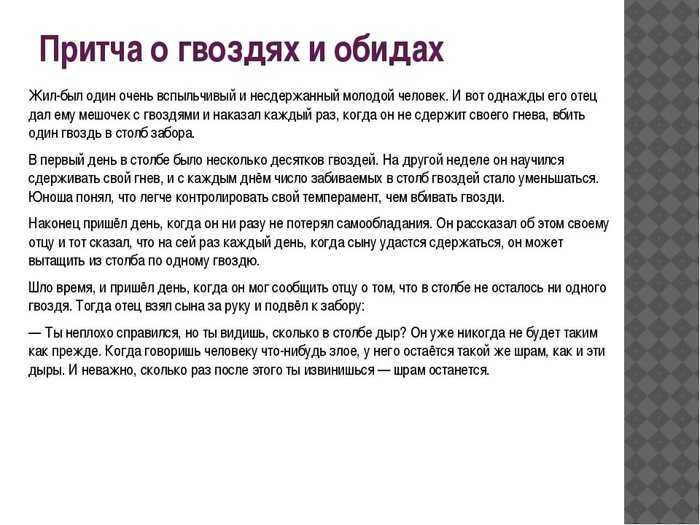 Слугу, который сначала не понимает приказов своего господина («Der Diener verstand mich nicht»), а затем в последний момент предлагает ему взять с собой в поездку еду, можно трактовать как преследующую нас реальность, от которой не так просто уйти. Звуки трубы, которые слышит герой, собираясь в путь, также могут символизировать то, что вскоре станет для этого человека прошлым. Возможно, тот факт, что слуга ничего не слышит, объясняется тем, что для него это не представляет такой важности, ведь он остается в этом мире, и ничто не должно пытаться удержать его.
Слугу, который сначала не понимает приказов своего господина («Der Diener verstand mich nicht»), а затем в последний момент предлагает ему взять с собой в поездку еду, можно трактовать как преследующую нас реальность, от которой не так просто уйти. Звуки трубы, которые слышит герой, собираясь в путь, также могут символизировать то, что вскоре станет для этого человека прошлым. Возможно, тот факт, что слуга ничего не слышит, объясняется тем, что для него это не представляет такой важности, ведь он остается в этом мире, и ничто не должно пытаться удержать его.
Таким образом, если языковая составляющая притч Ф. Кафки не обнаруживает разнообразия авторских черт, то смысловое наполнение произведений, их характер и атмосфера являет собой тот феномен, то авторское и отличительное, что мы искали в притчах писателя. Кафка живёт по своим законам и в своих произведениях не отделяет героев от своей личности. Так, в предисловии к книге «Франц Кафка. Роман, новеллы, притчи» Б. Сучков отмечает: «…в творчестве Кафки была размыта грань между его личными самоощущениями, его внутренними, часто смутными переживаниями и сферой собственно искусства, в которой обычно объективируется познанная, перечувствованная, обобщенная художником стихия непосредственного бытия» [2].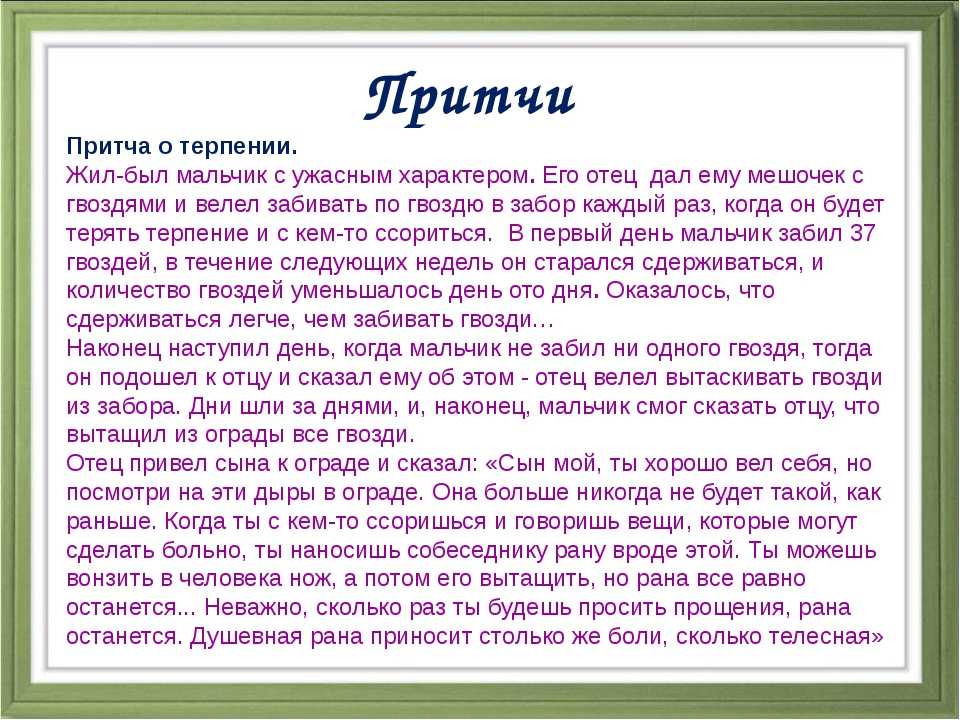
Признаки лирического в произведениях Ф.Кафки
Чтобы точнее понять, какие признаки лирического присутствуют в произведениях Кафки, приведем несколько определений понятия «лирика», взятых из разных источников. Литературовед В.А. Пронин, описывая «родовые категории литературы», отмечает, что лирика характерна тем, что в ней «реальность, пропущенная сквозь призму авторского воображения, окрашена субъективно» [3]. В своём труде «Теория литературных жанров» он приводит цитату Белинского, противопоставляющего лирику эпосу: «Лирическая поэзия есть … по преимуществу поэзия субъективная, внутренняя, выражение самого поэта» [4]. В учебном пособии «Die linguostilistische Interpretation der fiktionalen Texte» при рассмотрении понятия «лирика» особое внимание уделяется субъектно-объектным отношениям, особенности которых характеризуют род (нем. Gattung) лирики [5, c. 38]. В рамках этой категории вводится понятие лирического субъекта (das lyrische Subjekt), выражающего позицию автора, его личные переживания.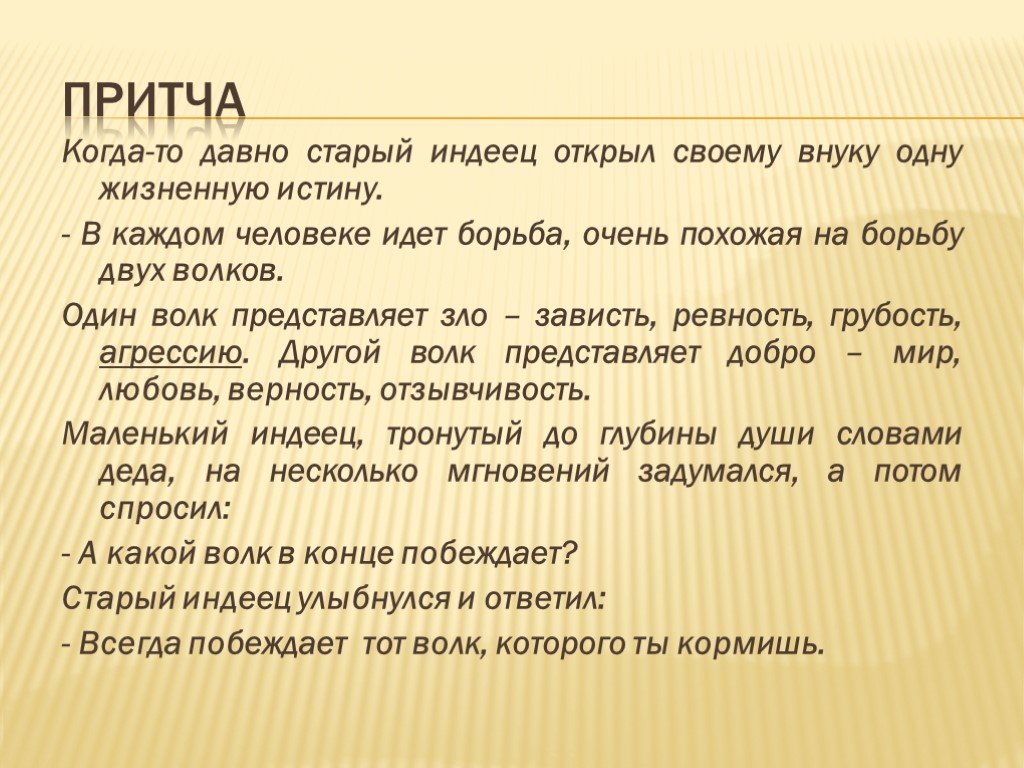 Лирический субъект может быть выражен как эксплицитно, например, в форме «лирического Я» (das lyrische Ich), так и имплицитно. Так называемый лирический герой является «посредником автора», с его помощью автор высказывается о своих переживаниях. Ещё один важный компонент лирики – лирический образ (das lyrische Bild). Он создается не только посредством стилистических троп, но и с помощью «конкретных предметных образов» [6, c. 42].
Лирический субъект может быть выражен как эксплицитно, например, в форме «лирического Я» (das lyrische Ich), так и имплицитно. Так называемый лирический герой является «посредником автора», с его помощью автор высказывается о своих переживаниях. Ещё один важный компонент лирики – лирический образ (das lyrische Bild). Он создается не только посредством стилистических троп, но и с помощью «конкретных предметных образов» [6, c. 42].
Итак, именно эти черты, а именно субъективизм, образность, которые являются определяющими для рода лирики, находят своё отражение в произведениях Ф.Кафки. О субъективизме в творчестве писателя говорит, помимо прочего, то обстоятельство, что автор в своих произведениях затрагивает только те темы, что близки лично ему. Каждая притча – отражение его собственных переживаний. Об этом говорит и Б. Сучков: «Произведения Кафки в значительной мере были прямым продолжением, фиксацией, записью его внутренних состояний и видений, тревожным, полным недоговоренностей и смуты рассказом о химерах и мучительных страхах, владевших его сознанием и омрачавших его безрадостную жизнь…» [7].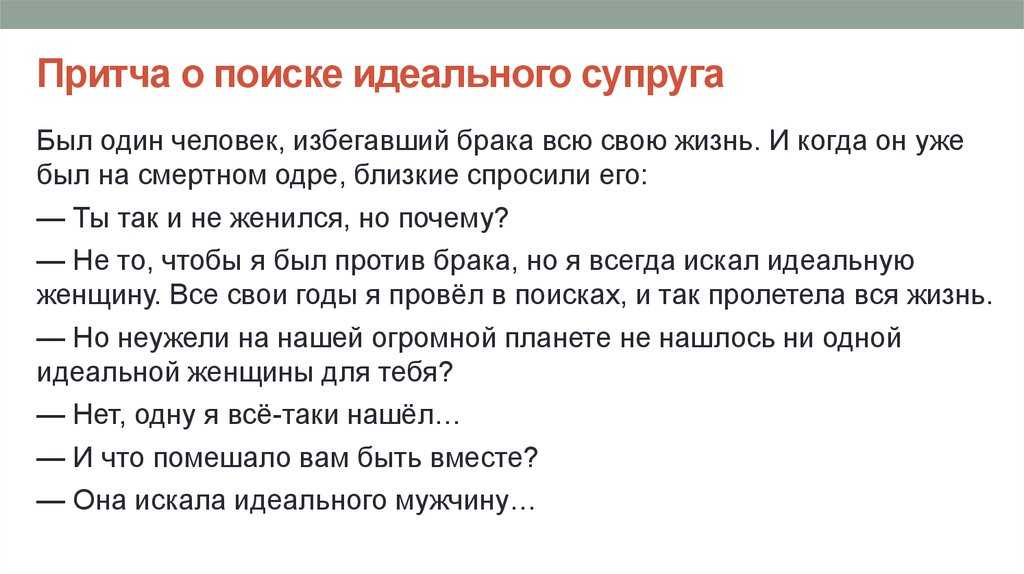 Наполненность произведений Кафки образами можно проследить, ознакомившись с самыми известными произведениями автора, такими, как «Замок», «Превращение». В книге Кристиана Эшвайлера «Kafkas Wahrheit als Kunst» автор также говорит о «наглядности и изобретательности представленных образов» и подчеркивает, что эти «образы пробуждают любопытство и требуют разъяснения» [8, c. 9-10]. Таким образом, «думающий читатель должен преобразовать отдельные высказывания писателя в осмысленный контекст (Sinnzusammenhang)».
Наполненность произведений Кафки образами можно проследить, ознакомившись с самыми известными произведениями автора, такими, как «Замок», «Превращение». В книге Кристиана Эшвайлера «Kafkas Wahrheit als Kunst» автор также говорит о «наглядности и изобретательности представленных образов» и подчеркивает, что эти «образы пробуждают любопытство и требуют разъяснения» [8, c. 9-10]. Таким образом, «думающий читатель должен преобразовать отдельные высказывания писателя в осмысленный контекст (Sinnzusammenhang)».
Таким образом, в произведениях Кафки сочетаются признаки как разных жанров (роман-притча), так и разных литературных родов. Сочетание родов – не является чем-то новым в литературной сфере. Так, в балладе отражены признаки всех трёх родов: лирики, драмы и прозы. Тем не менее, для прозы совершенно не характерно слияние с лирикой. Именно этим Ф. Кафка привлекает интерес не только к своему творчеству, но и к своей личности.
Список литературы
1. Bertelsmann Lesering Lektorat (Hsg.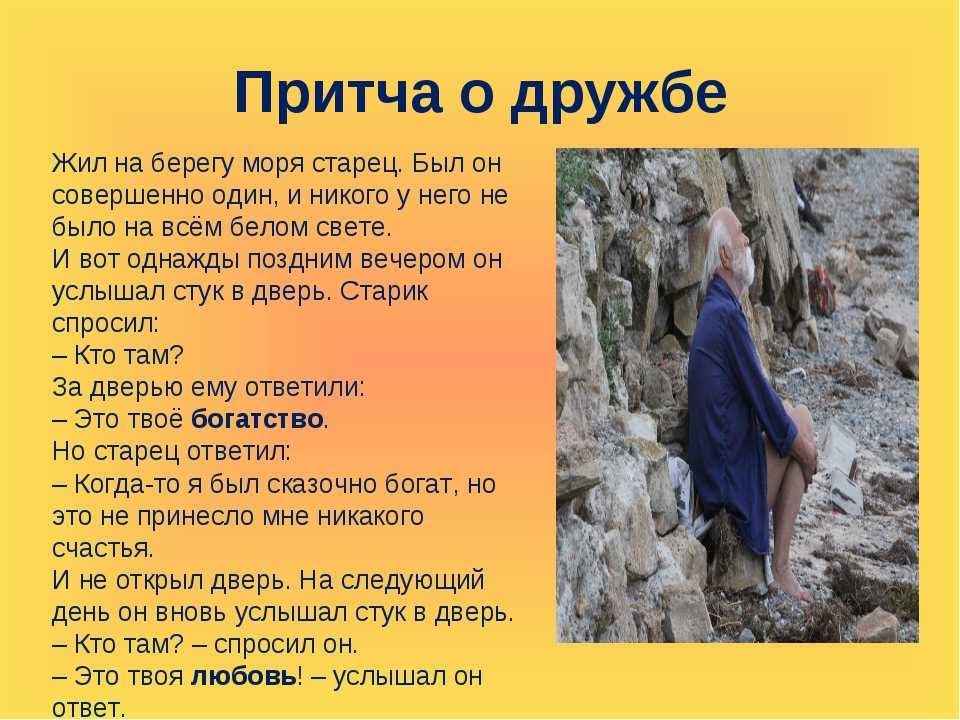 ). Autoren in Wort und Bild. — Gütersloh, Bertelsmann, 1972.
). Autoren in Wort und Bild. — Gütersloh, Bertelsmann, 1972.
2. Сучков Б.Л. Мир Кафки // Франц Кафка. Роман. Новеллы. Притчи. – М.: Прогресс, 1965. – с. 5-10.
3. Пронин В.А. Теория литературных жанров: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МГУП, 1999. – с. 2.
4. Пронин В.А. Там же, с. 2.
5. Кульпина Л.Ю., Снежкова И.А., Федоровская В.О., Щербина С.Ю. Die linguostilistische Interpretation der fiktionalen Texte: учебн. пособие для студентов-германистов: Ein Handbuch für Germanistikstudierende. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – с. 37-46.
6. Кульпина Л.Ю., Снежкова И.А., Федоровская В.О., Щербина С.Ю. Там же, с. 42.
7. Сучков Б.Л. Там же, с. 5.
8. Eschweiler, Christian. Kafkas Wahrheit als Kunst. Lichtblicke im Dunkel. — Bonn, Bouvier Verlag, 1996 – c. 9-10.
← Предыдущая статьяКонцепт «Родина» как лингвокультурологическая сопоставительная модель Великобритании и России
Следующая статья →Трансатлантическая тема в романах Генри Джеймса
Расскажите о нас своим друзьям:
Перед законом (Притча из романа Кафки «Процесс») / Хабр
Перед законом стоит привратник. К этому привратнику подходит человек из деревни и просит разрешения войти в закон. Но привратник говорит, что сейчас он не может разрешить ему войти. Человек думает и спрашивает потом, нельзя ли ему тогда войти позже. «Что ж, это возможно,» — отвечает привратник, «но только не сейчас». Поскольку ворота, ведущие в закон, раскрыты, как всегда, и привратник отходит в сторону, человек нагибается, чтобы заглянуть через ворота вовнутрь. Когда привратник замечает это, он смеется и говорит: «Если это тебя так манит, то попробуй тогда войти туда вопреки моему запрету. Но запомни: я всемогущ. И я только самый нижний привратник. От зала к залу там дальше стоят привратники один могущественнее другого. Уже перед лицом третьего теряюсь даже я».
К этому привратнику подходит человек из деревни и просит разрешения войти в закон. Но привратник говорит, что сейчас он не может разрешить ему войти. Человек думает и спрашивает потом, нельзя ли ему тогда войти позже. «Что ж, это возможно,» — отвечает привратник, «но только не сейчас». Поскольку ворота, ведущие в закон, раскрыты, как всегда, и привратник отходит в сторону, человек нагибается, чтобы заглянуть через ворота вовнутрь. Когда привратник замечает это, он смеется и говорит: «Если это тебя так манит, то попробуй тогда войти туда вопреки моему запрету. Но запомни: я всемогущ. И я только самый нижний привратник. От зала к залу там дальше стоят привратники один могущественнее другого. Уже перед лицом третьего теряюсь даже я».
Таких трудностей человек из деревни не ожидал; закон ведь должен быть доступен каждому и всегда, думает он, но когда он сейчас внимательнее разглядывает привратника в меховом пальто, его большой острый нос, его длинную, тонкую, черную татарскую бороду, он решает все же лучше подождать
 Привратник ставит ему табуретку и указывает ему сесть в стороне от дверей.
Привратник ставит ему табуретку и указывает ему сесть в стороне от дверей.Там он сидит дни и годы. Он делает много попыток добиться позволения войти и утомляет привратника своими просьбами. Привратник же нередко устраивает ему маленькие расспросы, спрашивает его о его родине и еще много о чем, но это все безучастные вопросы, из тех, которые задают владетельные персоны, и в конце он говорит ему снова и снова, что еще не может впустить его. Человек, который много чего взял с собой в дорогу, использует все, даже самое ценное, чтобы подкупить привратника. Тот, хотя и принимает все, но говорит при этом: «Я беру только потому, чтобы ты не думал, что куда-то не успел».
За эти долгие годы человек почти непрерывно наблюдает за привратником.Он забывает других привратников и только этот первый кажется ему единственным препятствием на пути в закон. Он проклинает такое несчастное стечение обстоятельств, в первые годы бесцеремонно и громко, позднее, когда стареет, только лишь ворчит себе под нос.
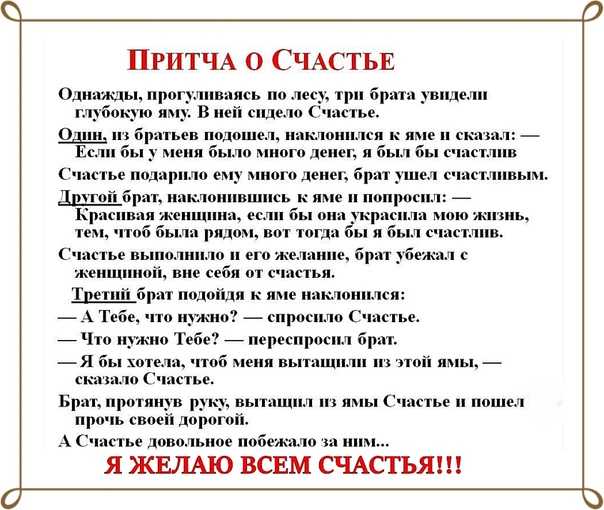 Он впадает в ребячество и, поскольку за время многолетнего изучения привратника он рассмотрел также и блох в его меховом воротнике, он просит и блох помочь ему и переубедить привратника.
Он впадает в ребячество и, поскольку за время многолетнего изучения привратника он рассмотрел также и блох в его меховом воротнике, он просит и блох помочь ему и переубедить привратника.В конце концов его взор слабеет, и он не знает, действительно ли это вокруг него стало темно, или это только обманывают его его глаза. Однако и сейчас он не может не распознать в этой темноте сияния, негасимо льющегося из дверей закона. Только жить ему уже осталось недолго. Перед смертью опыт всей его жизни собирается в его голове в один-единственный вопрос, который он еще не задавал привратнику. Он слабо машет ему рукой, потому что больше не может выпрямить свое немеющее тело. Привратник вынужден глубоко склониться к нему, ибо разница в росте изменилась отнюдь не в пользу человека. «Что же тебе сейчас еще хочется знать?» — вопрошает привратник,— «ты и впрямь ненасытен». «Все ведь так стремятся к закону,» — говорит человек, — «почему же тогда за многие годы никто, кроме меня, не потребовал войти в него?»
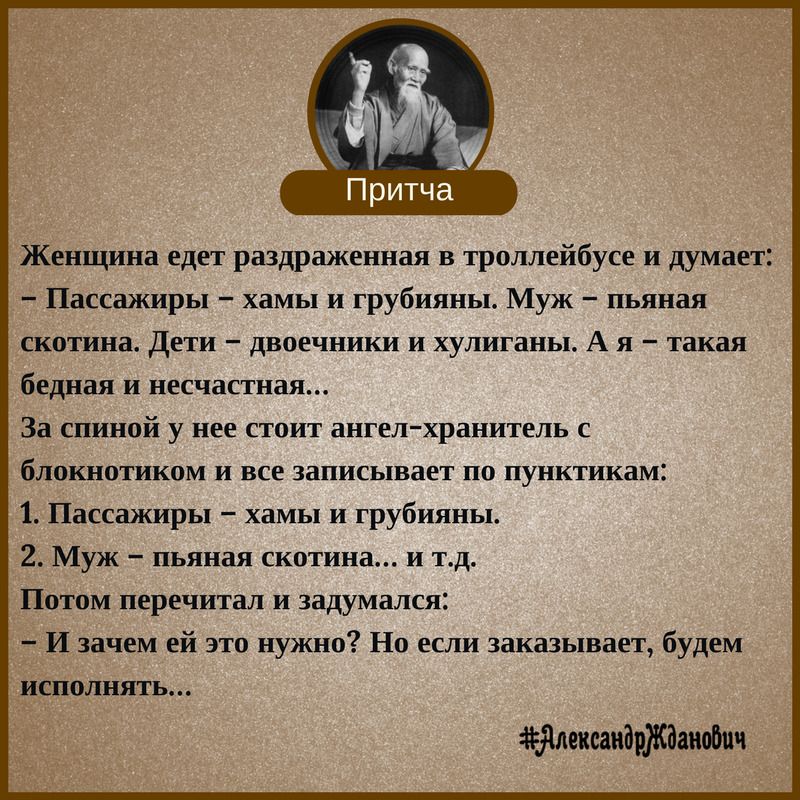
P.S. По известным причинам не смог разместить в соответствующем разделе.
Перенес в соотвествующий раздел
Что такое притча? | GotQuestions.org
ГлавнаяМатериалыУказательБиблияПонимание Библии Что такое притча
Вопрос
Ответ
Притча — это, буквально, что-то, «брошенное рядом» с чем-то другим. Притчи Иисуса были историями, которые были «сравнены» с истиной, чтобы проиллюстрировать эту истину. Его притчи были учебными пособиями, и их можно рассматривать как расширенные аналогии или вдохновенные сравнения. Распространенное описание притчи состоит в том, что это земная история с небесным смыслом.
Какое-то время в Своем служении Иисус много полагался на притчи. Он рассказал многие из них; на самом деле, согласно Марка 4:34а, «Он ничего не сказал им без притчи». В синоптических Евангелиях записано около 35 притч Иисуса.
Так было не всегда. В начале Своего служения Иисус не использовал притчи. Внезапно Он начинает рассказывать исключительно притчи, к большому удивлению Своих учеников, которые спрашивали Его: «Почему Ты говоришь с народом притчами?» (Матфея 13:10).
Иисус объяснил, что использование им притч имело двоякую цель: открыть истину тем, кто хотел ее узнать, и скрыть истину от равнодушных. В предыдущей главе (Матфея 12) фарисеи публично отвергли своего Мессию и хулили Святого Духа (Матфея 12:22–32). Они исполнили пророчество Исаии о жестокосердых, духовно слепых людях (Исаия 6:9–10). В ответ Иисус начал учить притчами. Те, у кого, как и у фарисеев, были предубеждения против учения Господа, отвергли бы притчи как неуместную чепуху. Однако те, кто действительно искал истину, поймут.
Иисус позаботился о том, чтобы Его ученики поняли смысл притч: «Он, оставшись наедине с учениками Своими, объяснил все» (Марка 4:34б).
Толкование притчи может представлять некоторые трудности для изучающего Библию. Иногда интерпретировать легко, потому что Сам Господь дал толкование — притча о сеятеле и притча о пшенице и плевелах объясняются в Евангелии от Матфея 13. Вот некоторые принципы, которые помогают в толковании других притч:
1) Определить объем представляемой духовной истины.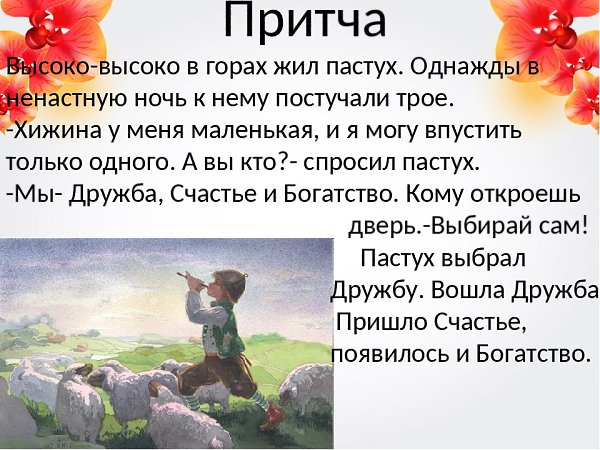 Иногда притче предшествуют некоторые вводные слова, которые определяют контекст. Например, Иисус часто предварял притчу словами «таково Царство Небесное». Также перед притчей о фарисее и мытаре мы читаем следующее: «Некоторым, уверенным в своей праведности и смотревшим на всех свысока, сказал Иисус сию притчу» (Луки 18:9). В этом вступлении описывается иллюстрируемый предмет (самоправедность и духовная гордость).
Иногда притче предшествуют некоторые вводные слова, которые определяют контекст. Например, Иисус часто предварял притчу словами «таково Царство Небесное». Также перед притчей о фарисее и мытаре мы читаем следующее: «Некоторым, уверенным в своей праведности и смотревшим на всех свысока, сказал Иисус сию притчу» (Луки 18:9). В этом вступлении описывается иллюстрируемый предмет (самоправедность и духовная гордость).
2) Различайте «мясо» рассказа от того, что является просто украшением. Иными словами, не каждая деталь притчи несет в себе глубокий духовный смысл. Некоторые детали просто нужны, чтобы история казалась более реалистичной. Например, в собственной интерпретации Иисусом притчи о сеятеле Он не комментирует тот факт, что существует четыре (и только четыре) разных типа почвы. Эта деталь не имела никакого значения для общего смысла, который имел в виду Иисус.
3) Сравните Писание с Писанием. Этот основной принцип герменевтики бесценен при изучении притч. Притчи Иисуса никогда не будут противоречить остальному Слову Божьему, которое Он пришел выразить (Иоанна 12:49).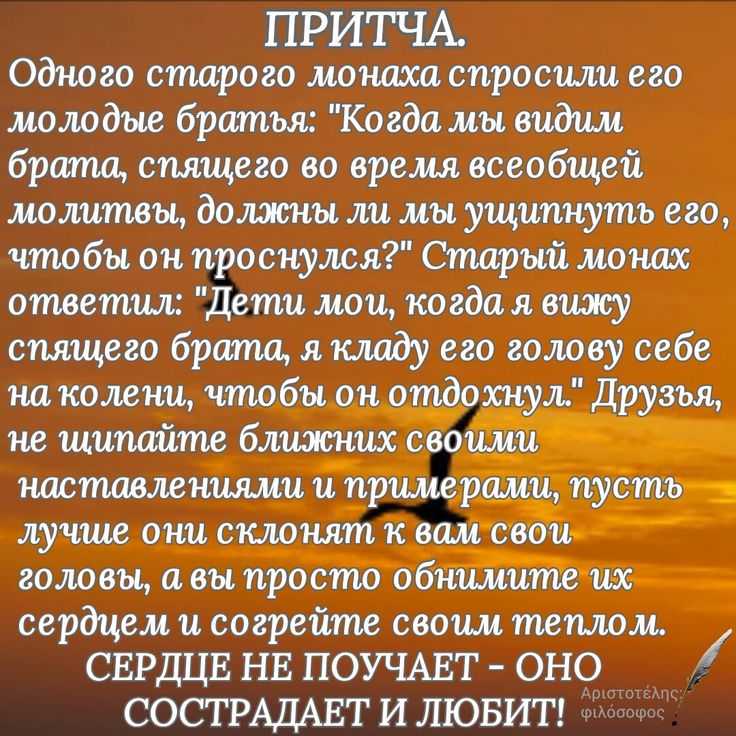 ). Притчи предназначены для иллюстрации учения, а учения, которые освещал Иисус, четко изложены в других местах Библии.
). Притчи предназначены для иллюстрации учения, а учения, которые освещал Иисус, четко изложены в других местах Библии.
В Библии есть притчи, отличные от евангельских. Книга Притчей полна аналогий: всякий раз, когда Соломон использовал сравнение для обучения истине, особенно в символическом параллелизме, результатом была простая притча. Например, в Притчах 20:2 говорится: «Гнев царя устрашает, как рык льва». Рычание льва «сопоставлено» с гневом царя для сравнения. В этом суть параболического языка.
Рассказав несколько Своих притч, Иисус сказал: «Кто имеет уши слышать, да слышит» (Марка 4:9, 23). Это был призыв слушать притчи не просто как обыкновенную историю, а как ищущего истину Божию. Пусть Бог дарует всем нам уши, чтобы по-настоящему «слышать».
Вопросы о Библии
Что такое притча?
Подпишитесь на
Вопрос недели
Получите наш Вопрос недели, доставленный прямо на ваш почтовый ящик!
Подписывайтесь на нас:Определение значения притчи (Что такое притча и как ее интерпретировать?)
На этой странице дается четкое и краткое определение слова «притча», за которым следует объяснение природы и толкования притчи.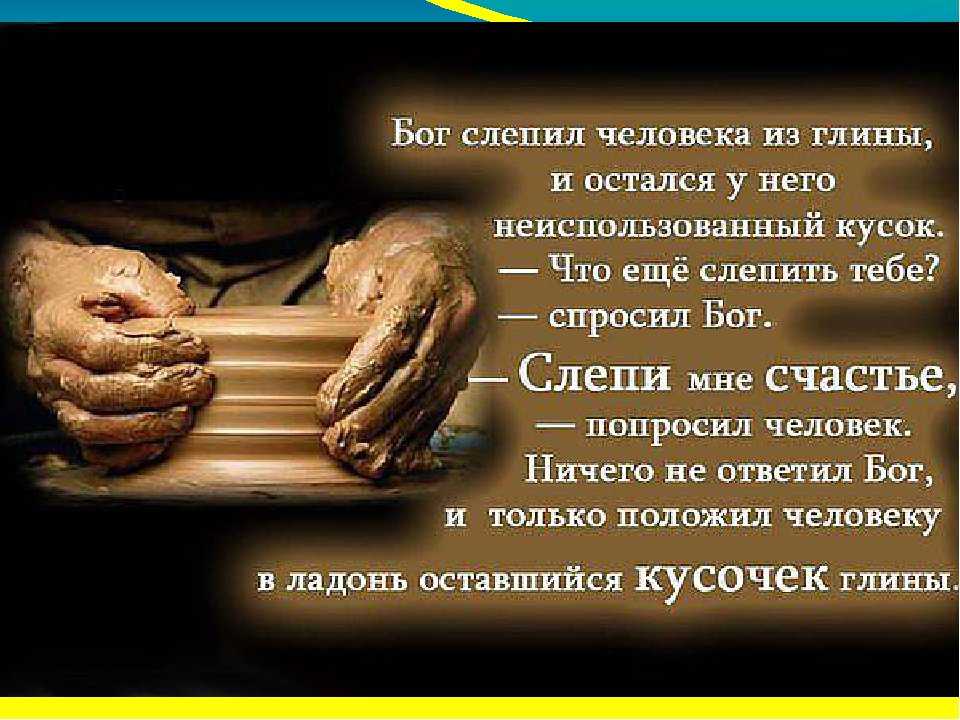
1 Что означает «притча»?
Определение «притчи»
«Притча» – это наглядный рассказ, в котором знакомая идея накладывается рядом с незнакомой идеей таким образом, чтобы сравнение помогло людям лучше понять незнакомую идею. Рассказывается простая история, некоторые черты которой аналогичны или параллельны пунктам или принципам, которые хочется донести до читателя. Например, слепой пытался вести другого слепого, и они оба упали в канаву. Это показывает, что, хотя человек оставляет свои собственные недостатки неисправленными, он не может помочь другим исправить их (ср. Луки 6:39 и след.).
Слово «притча» происходит от греческого слова παραβολη (параболея). В греческом языке para означает рядом, а ballo означает бросать или бросать. Таким образом, притча в самом общем смысле означает , чтобы бросить рядом с . Слово «притча» в своем более развитом смысле все еще сохраняет это основное значение.
2 Как работает притча?
Примером библейской притчи является та, которую пророк Нафан рассказал царю Давиду.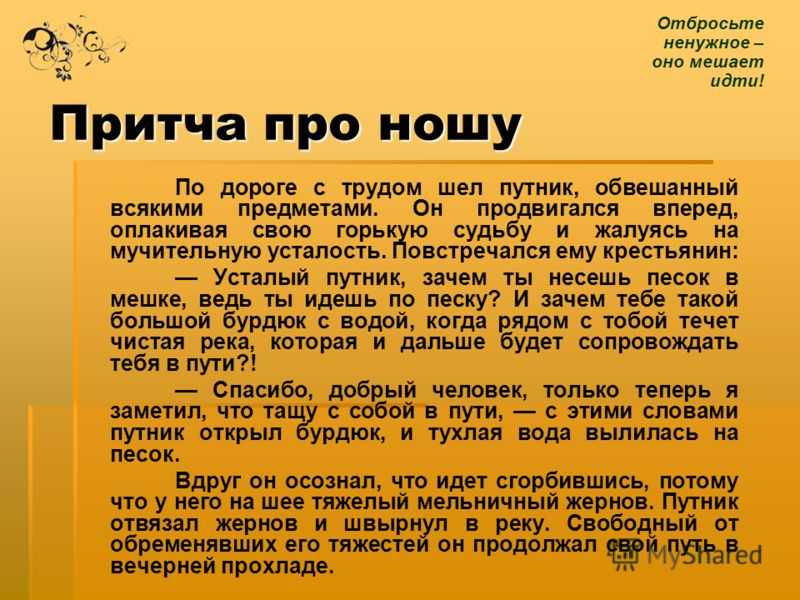 Эта притча позволяет нам увидеть в действии процесс, описанный выше. Пророк Нафан использовал притчу, чтобы пробудить Давида к греху, который он совершил в отношении Вирсавии (2 Царств 12:1-15).
Эта притча позволяет нам увидеть в действии процесс, описанный выше. Пророк Нафан использовал притчу, чтобы пробудить Давида к греху, который он совершил в отношении Вирсавии (2 Царств 12:1-15).
Дэвид, бывший пастух, без труда увидел несправедливость, причиненную бедняку, лишившему своего любимого ягненка, богатым и влиятельным человеком. Он очень рассердился на это и хотел наказать человека, совершившего несправедливость. Тогда Натан просто сказал Давиду: « Ты человек!». Затем Дэвид понял, что эта история иллюстрирует его собственный поступок несправедливости. Аналогия была настолько сильна, что Давид сразу увидел свой собственный грех. Его гнев на несправедливые поступки другого человека превратился в стыд и раскаяние в отношении своих собственных.
Как и Натан, Иисус был Мастером притч и часто использовал притчи, чтобы указать на грехи людей.
3 Как интерпретируется притча?
Иисус умел рассказывать притчи. Он рисовал яркие словесные картины, чтобы драматизировать свои учения. Иисус рассказывал свои притчи так, чтобы их было легко представить себе и, следовательно, запомнить.
Иисус рассказывал свои притчи так, чтобы их было легко представить себе и, следовательно, запомнить.
Понимание притчи.
Важно понимать, что в притче есть определенные черты, несущие мораль или смысл. Другие детали нужны просто для того, чтобы сделать историю яркой, запоминающейся и завершенной в воображении слушателя. Мы должны толковать притчи в соответствии с простыми принципами, которым они должны учить. Сам Иисус дает нам образец для истолкования, когда он истолковывает некоторые из своих притч таким простым образом.
Пример 1. Иисус рассказал короткую притчу о двух должниках Симону Фарисею (Луки 7:36-47), чтобы открыть ему глаза и помочь ему увидеть вещи по-другому. В глазах Симона он меньший должник перед Богом, а безнравственная женщина — больший. Тем не менее Иисус показывает Симону с помощью пронзительной притчи, что поэтому у Симона меньше любви к Богу!
Симон совершенно упустил бы смысл этой притчи, если бы задумался о значении того, почему сумма денег, причитающаяся должникам, делится на пять, или был ли какой-то скрытый смысл в том факте, что более высокий долг был ровно в десять раз меньше долга.