Мышление и речь в психологии: единство, краткая информация
Поскольку мышление и речь в психологии взаимосвязаны, при изучении одного понятия, нужно обращать внимание на второе. Связь проявляется во влиянии на развитие друг друга. Любой индивид сначала проговаривает мысль вслух, затем обдумывает ее и переходит к активным действиям. Чтобы понимать, как мышление связано с речью, нужно рассмотреть эти понятия отдельно друг от друга.
Взаимосвязь понятий
Психология мышления и речи рассматривает эти понятия в комплексе. Именно благодаря им человек отличается от животных. Животные мыслят просто, элементарно. Они не отвлекаются от процесса размышления опосредованным сознанием. Из-за этого они обращают внимание только на видимые объекты.
Человек с помощью речи называет предмет специальным словом. Словесная оболочка позволяет сделать мысль материальной, чтобы продолжить ее изучение без видимых объектов.
Мышление без знания речи невозможно. При этом чем глубже продумывать мысль, тем больше слов понадобится для ее устного или письменного описания.
Исторический очерк
Исследователи, занимающиеся изучением, развитием психологической науки, не отрицают прямых связей между речью, мышлением, но их мнение по поводу их генетического происхождения различаются.
Первым ученым, который внес большой вклад в изучение взаимосвязи между этими двумя понятиями, был Л.С Выготский. Он доказал, что речь, мышление должны изучаться с позиции разных корней.
Одновременно с этим ему противоречили лингвисты. Они утверждали, что нельзя связывать человеческое поведение с его речью.
Другая теория, доказывающая взаимосвязь между мышлением, речью — учение Сепира-Уорфа. С помощью этой концепции исследователи доказали, что благодаря структуре языка формируется мышление, различные способы познания реальности.
Классификация
Виды речи:
- Монологическая, диалогическая. Монологическая считается более сложной, поскольку человек что-то рассказывает другим, при этом ему никто не помогает, не подсказывает.
 Диалогическая — общение между разными людьми. Считается более простой.
Диалогическая — общение между разными людьми. Считается более простой. - Описательная — самый сложный вид речи, который связан с представлением, описанием.
- Внутренняя, внешняя. Внутренняя речь не может существовать без внешней. Ее главные функции — регулирование, планирование. Внешняя — устная, громкая.
- Письменная, устная. Письменная считается более поздней, сложной. Ей можно научиться только у других людей. Устная — более простая. Ей люди обучаются самостоятельно.
Виды мышления:
- Наглядно-образное. Применяются для решения умственных задач с помощью наглядных образов, ситуаций из личного опыта.
- Наглядно-действенное. С его помощью индивид решает умственные задачи, взаимодействуя с конкретным предметом.
- Словесно-логические. Умственные задачи решаются с использованием суждений, понятий, умозаключений.
По характеру решаемых задач, мышление делится на две группы:
- Практическое — с его помощью человек намечает цель, составляет план, который предназначен для решения практической задачи.

- Теоретическое — с его помощью люди решают познавательные задачи.
Характеристики
Мыслительные процессы:
- протекают основываясь на уже имеющейся базе знаний;
- связаны с деятельностью индивида;
- отражают взаимосвязь в словесной форме;
- исходят из живого созерцания.
Характеристики мышления:
- продуктивность;
- скорость, темп;
- целенаправленность;
- стройность, которая может быть логической, грамматической.
Характеристики речи:
- Голос — это практическое средство донесения формирующихся мыслей до других людей. Если применять голосовые навыки правильно, ими можно пользоваться как мощным инструментом для оказания воздействия на окружающих.
- Темп. Этим понятием описывают речевую скорость, произношение отдельных слов с определенными задержками. Если индивид профессионально владеет речевыми навыками, он без труда сможет корректировать темп, зависимо от того, какую информацию он излагает.

- Громкость. Зависимо от обстоятельств, индивид изменяет громкость голоса. Некоторые слова нужно выделить громкостью, чтобы акцентировать на них внимание окружающих.
- Высота голоса. С ее помощью можно передавать свое психологическое состояние окружающим. Например, если человек использует низкий голос, он кажется гораздо увереннее.
- Интонация. С ее помощью можно по-разному трактовать одни и те же слова. Только с помощью интонации можно сделать вопросительное или восклицательное предложение если идет устное описание.
Чтобы строить конструктивный диалог с окружающими, нужно уметь влиять на других людей.
Функции и свойства
Современные психологи выделяют две функции речи:
- как один из инструментов мышления;
- как средство общения.
Первая функция делится на две подгруппы:
- обобщение — отдельные слова связаны между собой по смыслу;
- сигнализация — словами индивид обозначает какое-либо событие или явление.

Вторая функция делится на 7 подгрупп:
- Экспрессивная речь. С ее помощью человек передает эмоции относительно слов другого человека, собственных убеждений.
- Коммуникативная — с ее помощью люди обмениваются информацией.
- Познавательная — она связана с изучением предметов.
- Выразительная — выражение лица, мимика.
- Первичные функции воздействия.
- Сигнификативная — индивид рассматривает объект и обозначает его свойства словами.
- Сигнальная — специальная функция для понимания.
Нарушения
Речевые нарушения называются афазией. Выделяется 7 видов заболевания:
- Эфферентная моторная. Пациент утрачивает возможность объединить звуки между собой, из-за чего продолжает произносить отдельные простые слога.
- Оптико-монистическая. Люди, страдающие от этой формы заболевания не могут описывать действия, изображения, предметы.
- Семантическая. Пациент не может выстраивать логические связи между отдельными словами в предложениях.

- Динамическая. Люди с таким заболеванием перестают говорить фразы, заменяют их простыми фразами.
- Сенсорная. Пациент слышит других людей, но не понимает, о чем они говорят.
- Афферентная моторная. Индивид путает отдельные звуки в процессе высказывания.
- Акустико-монистическая. Происходят затруднения написания слов, предложений под диктовку.
Нарушения мыслительных процессов:
- разорванность, бессвязность;
- замедленное или ускоренное формирование мыслей;
- появление навязчивых мыслей;
- бредовое состояние;
- переоценка реальных фактов;
- бесплодные мысли, рассуждения.
Нарушение мышления вызывают соматические и психологические заболевания.
Методы исследования
Существует несколько методик, которые используются для исследования речи, мышления:
- наблюдение;
- беседы;
- эксперименты;
- анкетирование;
- тестирование;
- программное, математическое моделирование мыслительных процессов.

Существует несколько наук, которые занимаются углубленным изучением речи:
- графология;
- риторика;
- психолингвистика;
- лингвистика.
Каждая из них изучает отдельные проявления речи, почерк, письменное, устное выражение.
Методы развития
Мышление и речевые навыки можно развивать в любом возрасте.
Для этого психологи создают новые методики, упражнения, многие из которых являются эффективными как для взрослых, так и для детей.
Методы развития речевых навыков:
- Наглядные — позволяют создать богатую теоретическую базу для дальнейшего развития речи. Для этого индивид должен путешествовать, посещать выставки, музеи, театры.
- Словесные — чтение произведений, заучивание отрывков текстов наизусть, обобщающие беседы, пересказы.
- Практические — дидактические упражнения, хороводные игры, пластические этюды.
Люди, у которых плохо развито мышление, не могут активно развиваться в творческом плане, с трудом описывают предметы, явления, выстраивают между ними логические связи.
Группы упражнений для развития мышления:
- Сравнительные методики. Их цель заключается в том, чтобы человек назвал как можно больше различий между двумя или более предметами.
- Воссоздание уже имеющихся или фантастических образов. С помощью этой методики можно развить фантазию, научиться описывать объекты, явления, их изменения под воздействием внешних факторов.
Чтобы развивать мышление, речь у детей, нужно переделать практики в увлекательные игры.
Они помогут не уставать ребенку в процессе обучения, с упоением поглощать новую информацию, развивать навыки.
Мышление и речь являются неразрывными. Только с помощью речевых навыков индивид может определять отдельные свойства предметов, для их дальнейшего углубленного изучения. Нарушения мыслительных процессов отразятся на человеческой речи и наоборот. Для развития мышления, речевых навыков применяются упражнения.
Полезное видео
Из видео Вы узнаете о том, как быстро научиться правильно и красиво говорить.
Этапы построения развернутой речи — Студопедия
В традициях отечественной психологии, основывающейся на трудах Л.С.Выготского, язык по своей сути – это социальный продукт, который постепенно интериоризуется ребенком и становится главным “организатором” его поведения и таких когнитивных процессов, как восприятие, память, решение задач или принятие решения.
С психолингвистических позиций развитие речи рассматривается как становление все более совершенной структуры речи. Под этим углом зрения процесс речевого развития представляет собой непрерывно и циклически повторяющиеся переходы от мысли к слову и от слова к мысли, которые становятся все более осознанными и содержательно богатыми (см.
Рис. 7. Психолингвистическая модель порождения и функционирования речи
Усвоение речи ребенком начинается с выделения речевых сигналов из всей совокупности звуковых раздражителей. Затем в его восприятии эти сигналы объединяются в морфемы, слова, предложения, фразы. На базе их формируется связная, осмысленная внешняя речь, обслуживающая общение и мышление. Процесс перевода мысли в слово идет в обратном направлении.
Какие же этапы проходит мысль прежде, чем она будет выражена в развернутой речи?
Человек хочет обратиться к другому человеку или изложить свою мысль в развернутой речевой форме. Он должен, прежде всего, иметь соответствующий мотив высказывания. Но мотив высказывания является лишь основным моментом, движущей силой процесса. Следующим моментом является возникновение мысли или общей схемы того содержания, которое в дальнейшем должно быть воплощено в высказывании.
Психологический анализ мысли всегда представляет большие трудности для психологов. Представители Вюрцбургской школы считали, что “чистая мысль” не имеет ничего общего ни с образами, ни со словами. Она сводится к внутренним духовным силам или “логическим переживаниям”, которые лишь “одеваются” в слова, как человек одевается в одежду. Другие психологи, принадлежащие к идеалистическому лагерю, с полным основанием выражали сомнение в том, что мысль является готовым типическим образованием, которому нужно лишь “воплотиться” в слова. Они высказывают предположение, что мысль является лишь этапом между исходным мотивом и окончательной внешне развернутой речью. Мысль остается неясной, диффузной, пока не примет свои ясные очертания в речи. Вслед за Л.С.Выготским эти исследователи утверждали, что мысль не воплощается, а совершается, формируется в слове. Под “мыслью” или “замыслом” следует понимать общую схему того содержания, которое должно воплотиться в высказывании, причем до его воплощения она носит самый общий, смутный, диффузный характер, нередко трудно поддающийся формулированию и осознанию.
Представители Вюрцбургской школы считали, что “чистая мысль” не имеет ничего общего ни с образами, ни со словами. Она сводится к внутренним духовным силам или “логическим переживаниям”, которые лишь “одеваются” в слова, как человек одевается в одежду. Другие психологи, принадлежащие к идеалистическому лагерю, с полным основанием выражали сомнение в том, что мысль является готовым типическим образованием, которому нужно лишь “воплотиться” в слова. Они высказывают предположение, что мысль является лишь этапом между исходным мотивом и окончательной внешне развернутой речью. Мысль остается неясной, диффузной, пока не примет свои ясные очертания в речи. Вслед за Л.С.Выготским эти исследователи утверждали, что мысль не воплощается, а совершается, формируется в слове. Под “мыслью” или “замыслом” следует понимать общую схему того содержания, которое должно воплотиться в высказывании, причем до его воплощения она носит самый общий, смутный, диффузный характер, нередко трудно поддающийся формулированию и осознанию.
Следующий этап на пути подготовки высказывания мысли имеет особое значение. В течение длительного времени он оставался вообще неизвестным, и только после исследований Л.С.Выготского было доказано его решающее значение для перешифровки (перекодирования) замысла в развернутую речь и создания порождающей (генеративной) схемы развернутого речевого высказывания. Имеется в виду механизм, называемый в психологии внутренней речью.
Большинство современных психологов не считает, что внутренняя речь имеет такое же строение и такие же функции, как и развернутая внешняя речь. Под внутренней речью психология понимает существенный переходный этап между замыслом (или мыслью) иразвернутой внешней речью. Механизм, который позволяет перекодировать общий смысл в речевое высказывание, придает этому замыслу речевую форму. В этом смысле внутренняя речь порождает (интегрирует) развернутое речевое высказывание, включающее исходный замысел в систему грамматических кодов языка (см. рис. 8).
рис. 8).
Рис. 8. Этапы формирования и развития внешнего речевого высказывания.
Переходное место, занимаемое внутренней речью на пути от мысли к развернутому высказыванию, определяет основные черты как ее функций, так и ее психологическую структуру. Внутренняя речь есть, прежде всего, не развернутое речевое высказывание, а лишь подготовительная стадия, предшествующая такому высказыванию; она направлена не на слушающего, а на самого себя, на перевод в речевой план той схемы, которая была до этого лишь общим содержанием замысла. Это содержание уже известно говорящему в общих чертах, потому что он уже знает, что именно хочет сказать, но не определил в какой форме и в каких речевых структурах сможет его воплотить.
Таким образом, внутренняя речь отличается от внешней не только тем внешним признаком, что она не сопровождается громкими звуками – “речь минус звук”. Внутренняя речь отличается от внешней по своей функции (речь для себя). Выполняя иную функцию, чем внешняя (речь для других), она в некоторых отношениях отличается от нее также по своей структуре: протекая в иных условиях, она в целом подвергается некоторому преобразованию (сокращена, понятна только самому себе, предикативна и т. д.).
д.).
Виды речи — психология — Студопедия
В психологии различают 2 основных вида речевой деятельности:
1. Внешняя. Она включает в себя как устную, так и письменную речь.
· диалог — непосредственная беседа, происходящая между 2 людьми.
· монолог — длительное, последовательное изложение мыслей или мнений одного человека. Сочетательная сторона монологической речи должна сопоставляется с выразительной.
· письменная речь – представляет собой развёрнутый вариант монолога, но при этом она может оказывать влияние лишь с помощью слов.
2. Внутренняя. Особый вид речевой деятельность. Для внутренней речи характерно с одной стороны, фрагментарность и отрывочность, с другой стороны, в ней исключается возможность неправильного восприятия ситуации. Впрочем при желании внутренний диалог можно остановить.
Общение и речь в психологии объединяют в себе эти 2 вида речевой деятельности, поскольку на начальных этапах задействована внутренняя речь, а дальше используется внешняя речь.
Психология и культура речи неразрывно связаны между собой. Культура речи — это такая организация языковых средств, которая в современных условиях позволяет наиболее лаконично и информативно высказаться в определённой жизненной ситуации таким образом, чтобы слушатель правильно воспринял полученную информацию. Именно поэтому, если вы хотите казаться культурным и высокоинтеллектуальным человеком, вам необходимо следить не только за своей внешностью и поведением, но и за своей речью. Умение правильно высказываться, очень цениться во все времена, и если вы сможете овладеть этим мастерством, то перед вами будут открыты все двери.
32.Классификация видов речи.
В зависимости от выполняемых функций, структуры, степени активности и общей направленности выделяются различные виды речевой деятельности.
Речь бывает
· активной, спонтанно конструируемой, и
· реактивной — представляющей цепочку динамических речевых стереотипов.
Реактивная речь определяется преимущественно внешними по отношению к субъекту высказывания факторами и возникает как реакция либо на реплики собеседника, либо на актуальную ситуацию. Спонтанная творческая активность индивида здесь минимизирована, тогда как активная речь охватывает все многообразие индивидуального словесного творчества и самовыражения.
Принято разделять
· монологическую речь (без непосредственной обратной связи от адресата),
· диалогическую.
В первом случае субъект высказывания самостоятельно определяет объем, содержание и структуру речи, в соответствии с собственными мотивами, установками и индивидуальными особенностями.
Во втором случае говорящий может корректировать, уточнять, конкретизировать, расширять или углублять высказывание, изменять его тему и направленность на основе обратной связи. Диалогическая речь структурируется согласно законам межличностной/интерперсональной коммуникации: в данном случае раскрытие смысла сообщений, направленность коммуникативного процесса и взаимопонимание обеспечиваются за счет постоянной смены «коммуникативных ролей» говорящего и слушающего (порождающего и воспринимающего высказывание).
Отметим, что указанное разделение в некотором смысле условно, если принять во внимание концепцию, согласно которой диалог — это не только определенная структура речевого общения, но выражение самой сущности речи, ее основной психологической и культурной функции. По М. Бахтину, любая форма речевой активности, от междометия до многостраничного романа, диалогична по своей природе, т.е. является высказыванием, адресованным Другому и ориентированным на Другого (не важно присутствующего в конкретной ситуации общения, потенциального или идеального).
В изначальной и принципиальной диалогичности любого высказывания и речи в целом отражается общая диалогическая структура любого культурного пространства, в котором происходит становление и самовыражение cубъекта. Диалог связывает не только конкретных индивидов, но также различные культурные сообщества и исторические эпохи. Таким образом, человеческая культура как таковая есть диалог, а речь (и внутренняя, и внешняя) — частный случай этого диалога. Речь всегда предполагает явное или неявное «присутствие» Другого как реального или идеального адресата высказывания (собеседник, читатель) или как альтернативной позиции, точки зрения, системы взглядов; также психика и культура определяют себя в диалогическом отношении к «иному».
Речь всегда предполагает явное или неявное «присутствие» Другого как реального или идеального адресата высказывания (собеседник, читатель) или как альтернативной позиции, точки зрения, системы взглядов; также психика и культура определяют себя в диалогическом отношении к «иному».
Процесс кодирования речевого высказывания. Путь от мысли к развернутой речи
Процесс кодирования речевого высказывания. Путь от мысли к развернутой речи
До сих пор мы останавливались на строении языка — основного орудия, которым человек пользуется для передачи информации, на основной системе кодов, сложившихся в общественной истории и позволящей отражать сложные связи и отношения действительности и формулировать мысль.
Сейчас мы должны перейти к анализу речи, которая передает информацию, на которую опирается человек в процессе мышления.
Под речью мы понимаем процесс передачи информации, пользующийся средствами языка.
Если язык есть объективная, сложившаяся в общественной истории система кодов и является предметом специальной науки — языкознания (лингвистики), то речь является психологическим процессом формулирования и передачи мысли средствами языка, как психологический процесс она является предметом психологии и называется психолингвистикой.
Реально речь выступает в двух формах деятельности.
Одна из них — передача информации, или общение, требует участия двух лиц: говорящего и слушающего. Вторая форма речи объединяет говорящего и слушающего в одном субъекте, в этом случае речь является не способом общения, а орудием мышления. Человек может говорить для себя, проявляя речь вовне или ограничиваясь внутренней речью, в этом втором случае человек использует речь для уточнения своей мысли.
Речь как орудие общения может выступать в двух реальных процессах.
С одной стороны, речь может воплощать мысль, формулировать ее в форме высказывания, передающего информацию собеседнику. В этом случае дело идет о кодировании высказывания, сводящегося к воплощению мысли в систему кодов языка. Анализ этого пути от мысли к речи называется в науке психологией высказывания, или экспрессивной речи.
С другой стороны, не меньшее значение имеет тот же процесс, но на этот раз рассматриваемый не со стороны говорящего, а со стороны слушающего. Здесь происходит обратный процесс — декодирование высказывания, иначе говоря, анализ воспринимаемого высказывания, превращение развернутого высказывания в свернутую мысль. Этот путь от речи к мысли в психологии часто называется процессом понимания, а соответствующий раздел психологической науки — психологией импрессивной речи.
Естественно, что процесс высказывания может носить характер устной речи или характер письменной речи. Как мы увидим ниже, обе эти формы речи имеют свои психологические особенности и отличаются как по процессу своего формирования, так и по своему строению.
Остановимся сначала на психологических процессах, лежащих в основе формулирования речевого высказывания, или на анализе того пути, который проходит психологический процесс, идущий от мысли к развернутости речи, и рассмотрим этапы, которые проходит психический процесс человека, формулирующего мысль в развернутом высказывании.
1. Человек хочет обратиться к другому человеку или изложить свою мысль в развернутой речевой форме. Он должен прежде всего иметь соответствующий мотив высказывания. Мотивом может служить желание сформулировать потребность, выразить просьбу, требование, которые собеседник должен исполнить; в этом случае высказывание будет носить действенный, прагматический характер. Мотивом высказывания может быть передача информации, вступление в контакт с другим человеком, а иногда и уяснение какого — либо положения для самого себя. В этом случае высказывание примет познавательный, информативный характер. Наконец, в некоторых наиболее элементарных случаях мотивом высказывания может служить выражение какого — либо эмоционального состояния, разрядка внутреннего напряжения. В данном случае речь будет носить характер восклицаний, междометий, и все «высказывание» (которое лишь условно может быть названо этим термином) будет носить характер, мало отличащийся от других (мимических) форм аффективных разрядов.
В данном случае речь будет носить характер восклицаний, междометий, и все «высказывание» (которое лишь условно может быть названо этим термином) будет носить характер, мало отличащийся от других (мимических) форм аффективных разрядов.
2. Мотив высказывания является лишь отправным моментом, движущей силой всего процесса. Следующим моментом является возникновение мысли или общей схемы того содержания, которое в дальнейшем должно быть воплощено в высказывании. Психологический анализ мысли всегда представлял большие трудности для психологии. Одни авторы (психологи, принадлежавшие к крайней идеалистической школе, так называемой Вюрцбургской школе, — О. Кюльпе, Мессер, К. Бюлер, Н. Ах) считали, что «чистая мысль» не имеет ничего общего ни с образами, ни со словами. Она сводится к внутренним духовным схемам или «логическим переживаниям», которые лишь дальше одеваются в слова, как человек одевается в одежду. Другие психологи, принадлежавшие к материалистическому лагерю, с полным основанием выражали сомнение в том, что мысль является готовым психическим образованием, которому нужно лишь «воплотиться» в слова. Они высказывали предположение, что «мысль» является лишь этапом, расположенным между исходным мотивом и окончательной внешней, развернутой речью, что она остается неясной, диффузной, пока не примет свои ясные очертания в речи. Вслед за выдающимся советским психологом Л. С. Выготским эти исследователи утверждали, что мысль не воплощается, а совершается, формируется в слове. Под «мыслью» или «замыслом» будем понимать общую схему того содержания, которое должно воплотиться в высказывании, причем до его воплощения она носит самый общий, смутный, диффузный характер, нередко трудно поддающийся формулировке и осознанию.
Они высказывали предположение, что «мысль» является лишь этапом, расположенным между исходным мотивом и окончательной внешней, развернутой речью, что она остается неясной, диффузной, пока не примет свои ясные очертания в речи. Вслед за выдающимся советским психологом Л. С. Выготским эти исследователи утверждали, что мысль не воплощается, а совершается, формируется в слове. Под «мыслью» или «замыслом» будем понимать общую схему того содержания, которое должно воплотиться в высказывании, причем до его воплощения она носит самый общий, смутный, диффузный характер, нередко трудно поддающийся формулировке и осознанию.
Следующий этап на пути к подготовке высказывания имеет особенное значение. В течение длительного времени он оставался вообще неизвестным, и только после исследования Л. С. Выготского было доказано решающее значение, которое имеет он для перешифровки (перекодировния) замысла в развернутую речь и для создания порождающей (генеративной) схемы развернутого речевого высказывания. Мы имеем в виду тот механизм, который называется в психологии внутренней речью.
Мы имеем в виду тот механизм, который называется в психологии внутренней речью.
Современная психология меньше всего понимает под «внутренней речью» простое говорение слов и фраз про себя и не считает, что внутренняя речь имеет такое же строение и такие же функции, как развернутая внешняя речь.
Под внутренней речью психология подразумевает существенный переходный этап между замыслом («мыслью») и развернутой внешней речью. Механизм, который позволяет перекодировать общий смысл в речевое высказывание, придает этому замыслу речевую форму. В этом смысле внутренняя речь является процессом, порождающим (генерирующим) развернутое речевое высказывание, включающим исходный замысел в систему грамматических кодов языка.
Переходное место, занимаемое внутренней речью на пути от мысли к развернутому высказыванию, определяет основные черты как ее функции, так и ее психологической структуры.
Внутренняя речь есть прежде всего не развернутое речевое высказывание, а лишь подготовительная стадия, предшествующая такому высказыванию; она направлена не на слушающего, а на самого себя, на перевод в речевой план той схемы, которая была до этого лишь общим содержанием замысла. Это содержание уже известно говорящему в общих чертах, потому что он уже знает, что именно хочет сказать, хотя еще не знает, в какой форме и в каких речевых структурах он может сформулировать свое высказывание. Занимая промежуточное место между замыслом и развернутой речью, внутренняя речь имеет свернутый, сокращенный характер, который генетически произошел из постепенного свертывания, сокращения развернутой речи ребенка, через шепотную речь, переходящую во внутреннюю речь, которая скорее является обозначением общей темы или общей схемы дальнейшего развернутого высказывания, но вовсе не ее полным воспроизведением.
Это содержание уже известно говорящему в общих чертах, потому что он уже знает, что именно хочет сказать, хотя еще не знает, в какой форме и в каких речевых структурах он может сформулировать свое высказывание. Занимая промежуточное место между замыслом и развернутой речью, внутренняя речь имеет свернутый, сокращенный характер, который генетически произошел из постепенного свертывания, сокращения развернутой речи ребенка, через шепотную речь, переходящую во внутреннюю речь, которая скорее является обозначением общей темы или общей схемы дальнейшего развернутого высказывания, но вовсе не ее полным воспроизведением.
Внутренняя речь, формулирующая содержание мысли, известна человеку, носит не только свернутый, но и предикативный характер. Она воплощает речевую схему дальнейшего высказывания и порождает его развернутые формы; поэтому во внутренней речи мы встречаем общие обозначения темы дальнейшего высказывания, иногда выраженные лишь одним понятным только самому субъекту словом, иногда принимающим форму речевого фрагмента, обозначающего наиболее существенные элементы дальнейшего высказывания, формулирующего в сокращенной, зачаточной форме, что именно должно быть содержанием дальнейшей развернутой речи.
Психология еще недостаточно изучила структуру и функциональные механизмы внутренней речи. Она еще очень мало знает и о том, как именно эти свернутые предикативные схемы, стоящие между мыслью и речевым высказыванием, осуществляют превращение мысли в систему развернутых кодов языка. Известно, что процессы внутренней речи формируются в детском возрасте из развернутой «эгоцентрической» речи, постепенно свертываясь и переходя через шепотную речь во внутреннюю речь. Именно это происхождение внутренней речи из внешней, по — видимому, и позволяет ей осуществлять обратный процесс, генерировать грамматическую схему развернутого высказывания, приводит к всплыванию тех логико — грамматических матриц, которые позволяют в дальнейшем осуществлять внешнюю развернутую речь. Активные фрагменты внутренней речи возникают при каждом затруднении и исчезают, когда процесс мышления автоматизируется и лишается активного творческого характера, и именно это указывает на то важное значение, которое имеет внутренняя речь для процессов речевого мышления.
Последний факт успешно показывается специальными опытами с электромиографической регистрацией тонких движений речевого аппарата (языка, губ, гортани), которые возникают при каждой подготовке к развернутому высказыванию или при каждом мыслительном акте.
Как было показано исследованиями некоторых авторов (в частности, А. Н. Соколова), каждое предложение решить какую — либо сложную задачу вызывает у испытуемого группу отчетливых электрических разрядов в речевых мышцах, которые не выявляются в виде внешней речи, но всегда предшествуют решению задачи.
Характерно, что описанные А. Н. Соколовым компоненты внутренней речи возникают при всякой интеллектуальной деятельности (даже той, которая раньше считалась неречевой), и эти электромиографические разряды, являющиеся симптомами внутренней речи, исчезают только в тех случаях, когда интеллектуальная деятельность приобретает привычный, хорошо автоматизированный характер. Генерирующая роль внутренней речи, приводящей к оживлению ранее усвоенных грамматических структур развернутой речи, приводит к последнему этапу интересующего нас процесса — к появлению развернутого речевого высказывания, в котором речь начинает опираться на все логико — грамматические и синтаксические схемы языка.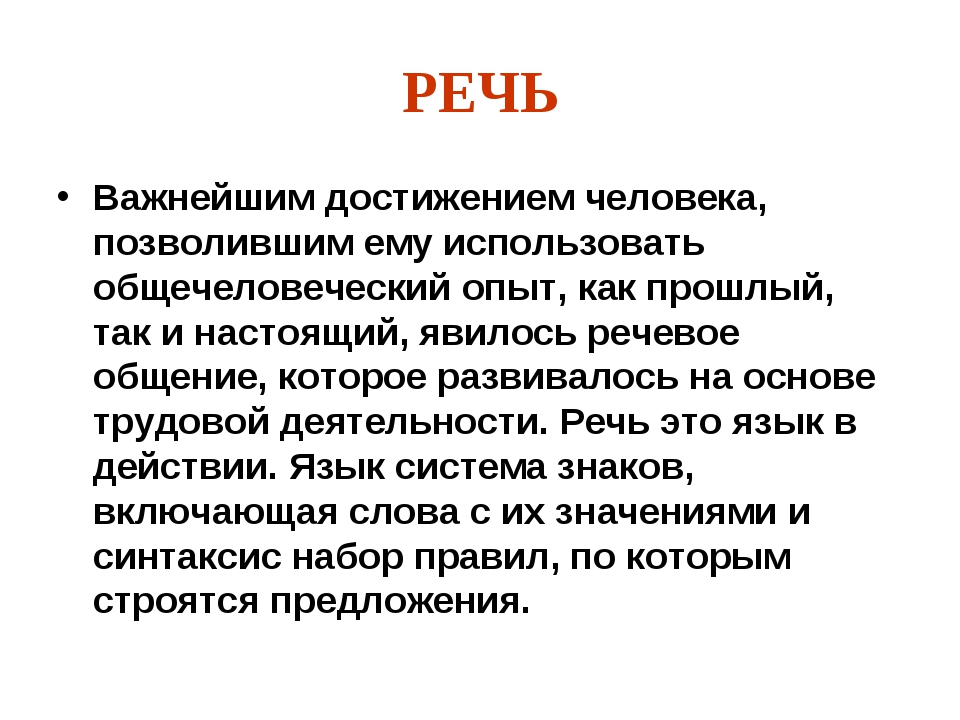 Структура развернутого высказывания может в различных случаях носить неодинаковый характер и варьироваться в зависимости от характера речевого высказывания.
Структура развернутого высказывания может в различных случаях носить неодинаковый характер и варьироваться в зависимости от характера речевого высказывания.
На основных видах речевого высказывания, имеющих большое значение для психологии, следует остановиться особо.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке7. Речь. Психология: конспект лекций
1.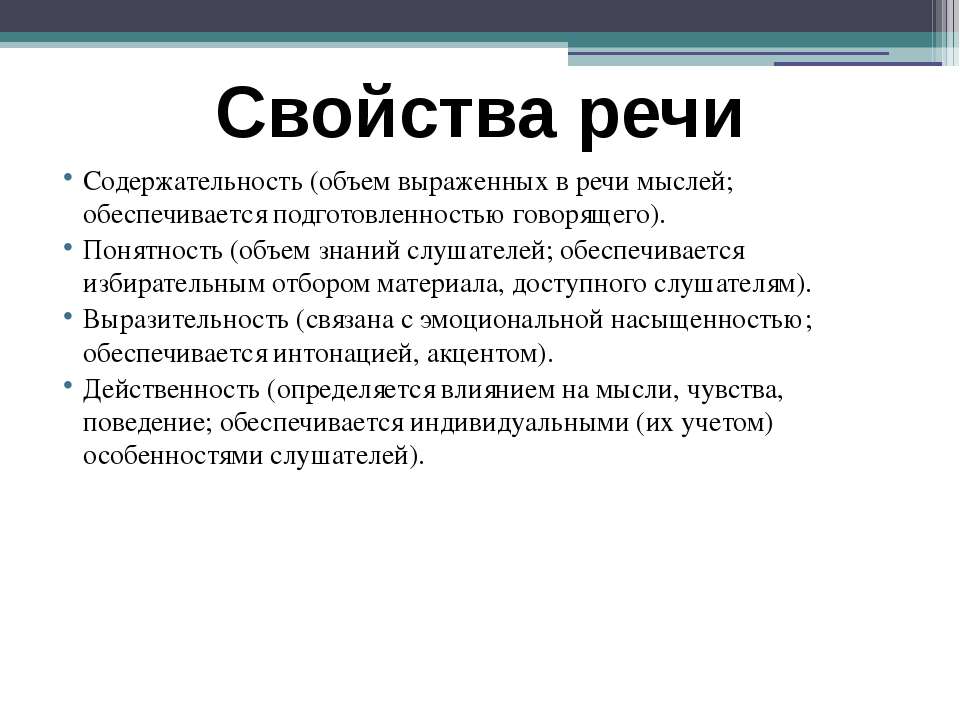 Речь и ее функции.
Речь и ее функции.
2. Виды речи.
1. Человек – существо общественное и, чтобы понимать друг друга, общаясь, люди используют тот или иной язык.
Язык является средством общения, которое было выработано человечеством в процессе своего развития, представляющим систему знаков.
Когда язык используется в целях общения, то возникает речь.
Язык и речь – хотя и очень близкие, но все же отличающиеся друг от друга понятия.
Язык становится «мертвым» сразу после того, как люди перестают на нем общаться.
Такое произошло с латинским языком, который сейчас используется лишь в узких областях науки.
Выделяются следующие функции речи:
1) обозначение – наличие этой функции свидетельствует об отличии речи человека от общения животных.
Звуки животных выражают лишь эмоциональные состояния, тогда как человеческое слово указывает на какой-то предмет или явление;
2) обобщение – функция проявляется в том, что одним словом можно обозначить группу сходных предметов (понятие), что роднит речь с мышлением.
Мысли человека облечены в речевую форму, вне речи мысль не существует;
3) коммуникация – выражается в применении речи в процессе общения.
Может проявляться в трех видах:
а) информационная – передача знаний;
б) экспрессивная – отражает отношение говорящего к окружающим, воздействует на чувства человека;
в) планирующая – направлена на организацию поведения или деятельности, может осуществляться при помощи требования, совета, приказа, убеждения, распоряжения и т. п.
Можно ли считать способность к развитию речи у человека врожденной?
Мнения ученых неоднозначны. С одной стороны, есть неопровержимые доказательства, отрицающие возможность врожденности, примером являются дети-маугли (см. тему «Общение»), с другой стороны, ученые так и не смогли обучить животных высшим понятийным формам речи, хотя многие животные и обладают развитой системой коммуникаций между собой.
Например, американские ученые Б. Т. Гарднер и Р. А. Гарднер (1972 г.) предприняли попытку обучить шимпанзе языку глухих.
А. Гарднер (1972 г.) предприняли попытку обучить шимпанзе языку глухих.
Обучение началось, когда шимпанзе была в возрасте одного года, и продолжалось в течение четырех лет.
К 4-летнему возрасту обезьяна самостоятельно воспроизводила около 130 жестов, понимала еще больше, но высшие понятийные формы мышления остались недоступными.
Таким образом, речь человека тесно связана с мышлением и является основным средством человеческого общения.
2. В различных условиях речь приобретает специфические особенности, которые выражаются в различных видах.
Рассмотрим эти виды.
Речь подразделяется на внешнюю, внутреннюю и эгоцентрическую.
Внешняя речь является ведущей в процессе общения, поэтому ее основное качество – доступность для восприятия другого человека, в свою очередь может быть письменной и устной.
Письменная речь представляет развернутое речевое высказывание.
Важно, чтобы форма изложения была ясной и точной.
Если речь предназначена для широкой читательской аудитории, то следует позаботиться о ее обоснованности, содержательности, увлекательности.
Устная речь более выразительная, так как используются мимика, жесты, интонация, голосовая модуляция и т. п. Специфика этого вида в том, что сразу же можно видеть реакцию слушателей на слова говорящего, что позволяет определенным образом корректировать речь.
У человека качества письменной и устной речи могут не совпадать.
Например, прекрасный оратор может испытывать затруднения при письменном изложении своей речи и наоборот.
Устная речь подразделяется на монологическую и диалогическую.
Монологическая речь – речь одного человека.
Ее основное достоинство заключается в возможности донести до слушателей собственную мысль без искажения и с необходимыми доказательствами.
Диалогическая речь происходит между двумя или несколькими лицами.
Это более легкий вид речи, так как не требует развернутости, доказательности, продуманности в построении фраз.
Ее недостаток в том, что говорящие могут перебивать друг друга, искажать разговор, не до конца высказывать свои мысли. Подразделяется на ситуативную и контекстуальную речь.
Ситуативная речь малопонятная для человека, не посвященного в ситуацию.
В ней присутствует много междометий, мало или нет совсем имен собственных, которые заменяются местоимениями.
Контекстуальная речь – более развернутая, предшествующие высказывания обуславливают возникновение последующих.
Эгоцентрическая речь – речь человека, обращенная на себя самого и не рассчитанная на какую-либо реакцию со стороны окружающих.
Это промежуточный вид между внешней и внутренней речью. Наиболее часто этот вид речи проявляется у детей среднего дошкольного возраста, когда в процессе игры или рисования, лепки они комментируют свои действия, ни к кому конкретно не обращаясь.
У взрослых также иногда можно встретить эгоцентрическую речь.
Чаще всего это происходит при решении сложной интеллектуальной задачи, в ходе чего человек рассуждает вслух.
Можно сказать, что это речь-мышление, задача которой – обслуживать интеллект человека.
Внутренняя речь – речь про себя.
Ее наиболее характерные черты – это фрагментарность, отрывочность, сокращенность.
Существует следующий закон перехода внешней речи во внутреннюю: в первую очередь сокращается подлежащее, а остается сказуемое с относящимися к нему частями предложения, в словах в первую очередь идет сокращение гласных.
Экспериментально доказано, что внутренняя речь существенно влияет на решение умственных задач.
В опытах А. Н. Соколова взрослым испытуемым предлагалось прослушать текст или решить несложный арифметический пример и при этом одновременно декламировать вслух хорошо выученные стихи, либо произносить одни и те же простые слоги («ба-ба» или «ля-ля»).
Эксперимент показал, что при таких условиях смысл текста не улавливался, а воспринимались лишь отдельные слова, решение задачи также затруднялось, а это может означать, что процесс мышления предполагает активную внутреннюю работу артикуляционного аппарата.
Подобного рода опыты организовывались и с младшими школьниками.
Оказалось, что простой зажим языка зубами уже вызывал серьезные затруднения в чтении и понимании текста и наличие грубых ошибок при письме.
Таким образом, виды речевой деятельности разнообразны и используются в зависимости от ситуации общения.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке41. Виды речи. Общая психология
Виды речи. Общая психология
Существуют различные виды речи: речь жестов и звуковая речь, письменная и устная, внешняя и внутренняя. Основное деление – это речь внутренняя и внешняя. Внешняя речь подразделяется на письменную и устную. Устная же речь в свою очередь включает в себя речь монологическую и диалогическую.
Внутренняя речь не направлена на непосредственное общение человека с другими людьми. Это беззвучная речь, протекающая скорее как мыслительный процесс. Есть две ее разновидности: собственно внутренняя речь и внутреннее проговаривание. Прогова-ривание – вполне развернутая речь. Это просто мысленное повторение каких-либо текстов (например, текста предстоящего доклада, выступления, заученного наизусть стихотворения и иного в условиях, когда неудобно такое повторение вслух).
Внешняя речь бывает устной и письменной. Устная речь в первую очередь звуковая. Но нельзя исключить и значение жестов. Они могут и сопровождать звуковую речь, и выступать в качестве самостоятельных знаков. Отдельные жесты могут быть эквивалентом слов и иногда даже передавать достаточно сложные смыслы в условиях, когда звуковая речь не может быть применена. Общение при помощи жестов и мимики относится к невербальному типу общения, в отличие от вербального (словесного).
Но нельзя исключить и значение жестов. Они могут и сопровождать звуковую речь, и выступать в качестве самостоятельных знаков. Отдельные жесты могут быть эквивалентом слов и иногда даже передавать достаточно сложные смыслы в условиях, когда звуковая речь не может быть применена. Общение при помощи жестов и мимики относится к невербальному типу общения, в отличие от вербального (словесного).
Письменная речь имеет другую функцию. Она чаще рассчитана на передачу более отвлеченного содержания, не связанного с конкретной ситуацией и конкретным собеседником (за исключением, может быть, личных писем). Хотя нельзя не отметить, что время вносит свои коррективы – отмирает эпистолярный жанр, зато мощно развивается сетевое общение.
Устная речь имеет две формы. Более распространена диалогическая форма. Диалог по определению – это непосредственное общение двух или нескольких человек, обмен содержательными репликами и информацией познавательного или эмоционального характера между его участниками.
Монологическая речь – совсем другое проявление устной речи. Здесь происходит относительно долгое последовательное изложение некоей системы мыслей, знаний одним лицом (чтение лекции перед многочисленной аудиторией).
Возвращаясь к характеристикам письменной речи, надо отметить, что она имеет своей основой монологическую речь, так как в ней отсутствует непосредственная обратная связь с собеседником. Но в отличие от монологической устной речи письменная речь очень ограничена в средствах выразительности, поэтому основными в ней являются содержательная сторона и грамотность изложения.
Помимо перечисленных видов речи, некоторые психологи выделяют еще речь активную и пассивную. Они могут существовать и в устной, и в письменной форме. Активная речь представляет собой процесс передачи информации. Сама активность заключается в необходимости речепорождения. Пассивная же речь является процессом восприятия информации, заложенной в чьей-либо активной речи. Это могут быть выслушивание, адекватное понимание, а в случае восприятия письменной речи – прочтение, повторение про себя.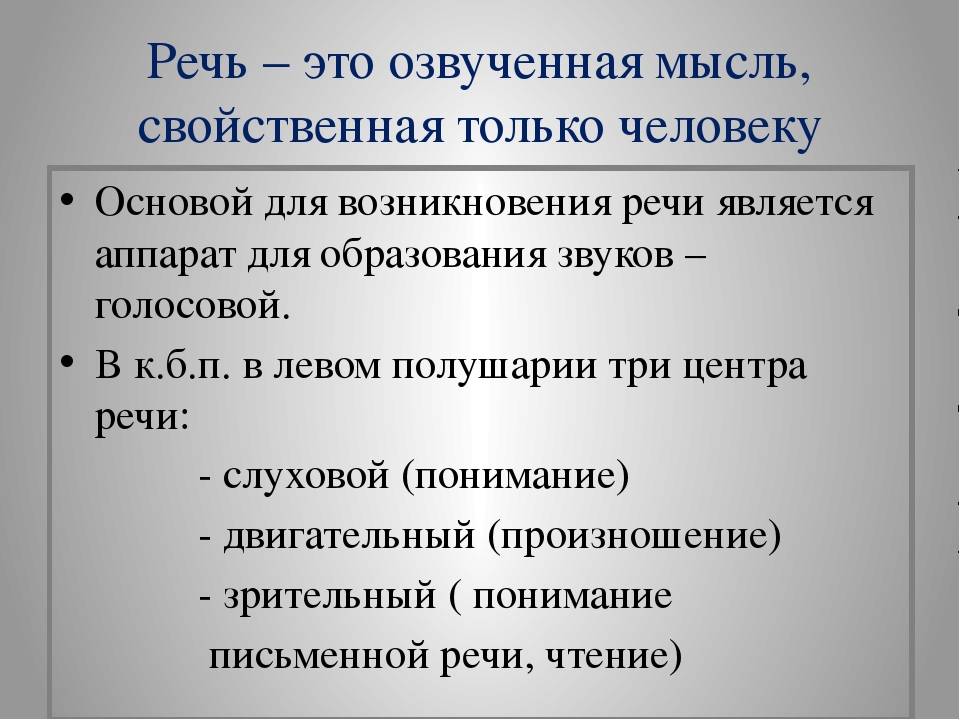
Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке20 Темы психологии речи • Мой класс речи
Психологические речевые темы о нашем повседневном психическом состоянии, подумайте о тестировании эмоционального интеллекта или даже о гипнозе и катарсисе, объединенных в информативные заявления для написания об установках.
DR- Теория иерархии человеческих потребностей Авраама Маслоу. Ряд уровней в этом процессе являются хорошими основными моментами: физиологические потребности, потребности в безопасности, принадлежности, уважении и самоактуализации.

- Почему так много людей считают подростковый возраст таким трудным? Жизненные обстоятельства, возможно, заставляют вас чувствовать, что вы едете на американских горках из-за быстрых физических и эмоциональных изменений.Назовите причины и способы лечения. Психология речевых тем в помощь и совет другим людям.
- Как ты запоминаешь то, что знаешь? Другими словами, опишите, как ваш мозг работает с краткосрочными и долгосрочными воспоминаниями. Молекулярные и химические действия и реакции могут быть частью вашего информативного разговора.
- Технологии искусственного интеллекта. Например. компьютерные системы, работающие как люди (робототехника), решение проблем и управление знаниями с помощью аргументов, основанных на прошлых случаях и данных.
- Сильные раздражители, вызывающие временные изменения в поведении. Например. Таблетки, деньги, еда, сахар. В таком случае стоит поговорить об энергетических напитках и их кратковременной эффективности — не забудьте упомянуть об опасностях…
- Теория Юнга о нашем эго, личном бессознательном и коллективном бессознательном.
 Психоаналитик Карл Юнг обнаружил, что невроз основан на напряжении между нашей психикой и отношениями.
Психоаналитик Карл Юнг обнаружил, что невроз основан на напряжении между нашей психикой и отношениями. - Что такое эмоциональный интеллект? И почему сейчас это важнее, чем IQ-рейтинги.Как измерить EI с помощью каких личностных тестов?
- Это подводит меня к следующим темам речевой психологии: опасностям личностных тестов.
- Психологические приемы убеждения в выступлениях. Например. язык тела, понимание мотивации аудитории, транс и гипноз.
- Маркетинг и методы продаж, основанные на психологическом воздействии. Например. привлекательная, стимулирующая красочная упаковка или влияющая на поведение потребителей при совершении покупок в торговых центрах.
- Медитация помогает сосредоточить внимание и успокоить ум.Например. Научите свою публику сосредотачиваться на дыхании, оживляйте каждое движение в замедленной съемке или медитации при ходьбе.
- Причины против и за то, чтобы стать бихевиористом. Бихевиоризм — это методологическое исследование того, как научный метод психологии.
- Зигмунд Фрейд и его идеи. Приложив немного фантазии, вы можете изменить и преобразовать эти примеры тем в привлекательные психологические речевые темы: наши защитные механизмы, гипноз и катарсис, психосексуальные стадии развития.
- Биологические причины депрессии. Например. биологические и генетические, экологические и эмоциональные факторы.
- Когда ваш начальник — женщина. Что происходит с мужчинами? А женщинам?
- Первые признаки тревожных расстройств. Например. проблемы со сном и концентрацией внимания, резкость и раздражительность.
- Как психотерапия, проводимая обученными профессионалами, помогает людям выздороветь.
- Как улучшить свои невербальные коммуникативные навыки и эффективно общаться. Изучите чьи-то несовместимые признаки тела, измените тон голоса, сохраняйте зрительный контакт, разговаривая с человеком неформально или официально.
- Всегда говорите после травм. Дети, пожарный, полицейские, медики в зонах конфликтов.
- Фобия номер один на земле — это страх публичных выступлений, а не страх смерти. Я думаю, это очень интересная психологическая тема…
И еще несколько тем, которые вы можете разработать самостоятельно:
- Опасности личностных тестов.
- Как ставить и достигать нереальные цели.
- Теория Зигмунда Фрейда.
- Теория иерархии потребностей Маслоу.
- Три способа измерения эмоционального интеллекта.
- Почему публичные выступления — это фобия номер один на планете.
- Анимированное насилие влияет на отношение молодежи.
- Стать миллионером не сделает вас счастливым.
- Быть пацифистом — значит быть наивным.
- Изменения — это не прогресс.
- Все боятся публично выступать.
- Идеи влияют на жизнь людей.
- Психическое отношение влияет на процесс заживления.
- Филантропия — основа любопытства.
- Хвалить публично и критиковать или наказывать наедине.
- Иногда солгать — это нормально.
- Как важно спросить себя, почему вы что-то отстаиваете.
- Единственный ответ на жестокость — доброта.
- Травмы от перестрелок длятся всю жизнь.
- Чтобы привлечь внимание людей на сцене, внимательно следите за их отношением и социальным происхождением.
- Пытки как метод допроса недопустимы.
Можем ли мы написать вашу речь?
Поразите свою аудиторию с помощью профессионального спичрайтера.
Включены бесплатные корректура и редактирование.
Мышление и речь Льва Выготского, Глава 1. Мышление и речь. Проблема и метод исследования
Советская психология: Мышление и речь Льва Выготского, Глава 1. Мышление и речь. Проблема и метод исследованияМышление и речь.Выготский 1934
Глава 1
Проблема и метод расследования
Первая проблема, с которой необходимо столкнуться при анализе мышления и речи, касается взаимоотношений между различными психическими функциями, взаимоотношений между различными формами активности сознания. Этот вопрос лежит в основе многих проблем психологии. При анализе мышления и речи центральная проблема — это вопрос отношения мысли к слову. Все остальные вопросы вторичны и логически подчинены; их невозможно даже сформулировать должным образом, пока не будет решена эта более основная проблема. Примечательно, что вопрос взаимоотношений между различными психическими функциями остался почти полностью неизученным. По сути, это новая проблема для современной психологии.
Напротив, проблема мышления и речи стара, как сама психология. Однако вопрос об отношении мысли к слову остается наиболее запутанным и наименее разработанным аспектом проблемы.Атомистические и функциональные формы анализа, которые доминировали в психологии в течение последнего десятилетия, привели к анализу психических функций в изоляции друг от друга. Психологические методы и стратегии исследования развивались и созрели в соответствии с этой тенденцией к изучению отдельных, изолированных, абстрактных процессов. Проблема связи между различными психическими функциями — проблема их организации в интегрированной структуре сознания — не входила в рамки исследования.
Конечно, нет ничего нового в том, что сознание представляет собой единое целое, что отдельные функции связаны друг с другом в своей деятельности. Однако традиционно объединенная природа сознания — связи между психическими функциями — просто принималась как данность. Они не были объектом эмпирических исследований. Причина этого становится очевидной только тогда, когда мы осознаем важное неявное предположение, предположение, которое стало частью основы психологических исследований.Это предположение (которое никогда не было четко сформулировано и полностью ложно) заключается в том, что связи или связи между психическими функциями постоянны и неизменны, что отношения между восприятием и вниманием, памятью и восприятием, а также мыслью и памятью неизменны. Это предположение подразумевает, что отношения между функциями можно рассматривать как константы и что эти константы не должны рассматриваться в исследованиях, посвященных самим функциям. Как мы упоминали ранее, в результате проблема межфункциональных отношений осталась в значительной степени неисследованной в современной психологии.
Неизбежно это оказало серьезное влияние на подход к проблеме мышления и речи. Любой обзор истории этой проблемы в психологии сразу же делает очевидным, что центральный вопрос, проблема отношения мысли к слову, постоянно игнорируется.
Попытки решить проблему мышления и речи всегда колебались между двумя крайними полюсами, между идентификацией или полным слиянием мысли и слова и одинаково метафизическим, абсолютным и полным разделением двух, разрывает их отношений.Теории мышления и речи всегда оставались пойманными в один и тот же заколдованный круг. Эти теории либо выражали чистую форму одного из этих крайних взглядов, либо пытались объединить их, занимая некую промежуточную точку, постоянно перемещаясь между ними.
Если мы начнем с утверждения, сделанного в древности, что мысль есть «речь без звука», мы можем проследить развитие первой тенденции — тенденции отождествлять мышление и речь — до современного американского психолога или рефлексолога.Эти психологи рассматривают мышление как рефлекс, в котором моторный компонент подавлен. В рамках этих перспектив невозможно не только решение проблемы отношения мысли к слову, но и сама постановка проблемы. Если мысль и слово совпадают, если они — одно и то же, не может быть никакого исследования отношения между ними. Невозможно изучить отношение вещи к самой себе. Таким образом, с самого начала проблема неразрешима. Основной проблемы просто удается избежать.
Перспективы, которые представляют другую крайность, перспективы, которые начинаются с концепции, что мышление и речь независимы друг от друга, очевидно, лучше подходят для решения проблемы. Представители вюрцбургской школы, например, пытаются освободить мышление от всех сенсорных факторов, включая слово. Связь между мыслью и словом рассматривается как чисто внешнее отношение. Речь представлена как внешнее выражение мысли, как ее облачение.В этих рамках действительно можно поставить вопрос о соотношении мысли и слова и попытаться разрешить его. Однако этот подход, который разделяют несколько разрозненных психологических традиций, постоянно приводит к неспособности решить проблему. Более того, в конечном итоге он не может дать правильной постановки проблемы. Хотя эти традиции не игнорируют проблему, они все же пытаются разрубить узел, а не распутать его. Вербальное мышление делится на элементы; он разделен на элементы мысли и слова, которые затем представлены как чуждые друг другу сущности.Изучив характеристики мышления как такового (т. Е. Мышления независимо от речи), а затем речи, изолированной от мышления, предпринимается попытка восстановить связь между ними, восстановить внешнее механическое взаимодействие между двумя разными процессами.
Например, недавнее исследование взаимосвязи между этими функциями привело к выводу, что двигательные процессы, связанные с речью, играют важную роль в облегчении процесса мышления, в частности, в улучшении понимания субъектом сложного вербального материала.Вывод этого исследования заключался в том, что внутренняя речь способствует закреплению материала и создает впечатление того, что необходимо понять. Когда внутренняя речь была включена в процессы, связанные с пониманием, она помогала субъекту ощущать, улавливать и изолировать важное от неважного в движении мысли. Также было обнаружено, что внутренняя речь играет роль фактора, облегчающего переход от мысли к открытой речи.
Как показывает этот пример, после того, как исследователь разложил единую психологическую формацию вербального мышления на ее составные элементы, он вынужден установить чисто внешнюю форму взаимодействия между этими элементами.Это было бы так, если бы он имел дело с двумя совершенно разнородными формами деятельности, с формами деятельности, не имеющими внутренних связей. Те, кто представляют эту вторую традицию, имеют преимущество перед представителями первой в том, что они, по крайней мере, способны поставить вопрос об отношении мышления к речи. Слабость этого подхода в том, что в нем ложная постановка проблемы и исключается возможность ее правильного решения. Эта неспособность правильно сформулировать проблему является прямой функцией метода разложения целого на его элементы, метода, который исключает изучение внутреннего отношения мысли к слову.Таким образом, критическим вопросом является метод. Если мы хотим успешно справиться с проблемой, мы должны начать с выяснения вопроса о том, какие методы следует использовать при ее изучении.
Исследование любого умственного образования предполагает анализ, но этот анализ может принимать любую из двух принципиально различных форм. Все неудачи, которые испытали исследователи в своих попытках решить проблему мышления и речи, можно объяснить их доверием к первой из этих двух форм анализа.На наш взгляд, второе представляет собой единственное доступное средство для движения к истинному решению этой проблемы.
Первая из этих форм анализа начинается с разложения сложного ментального целого на его элементы. Этот режим анализа можно сравнить с химическим анализом воды, в котором вода разлагается на водород и кислород. Существенной особенностью этой формы анализа является то, что ее продукты имеют другую природу, чем целое, из которого они были получены.У элементов отсутствуют характеристики, присущие целому, и они обладают свойствами, которыми он не обладал. Когда кто-то приближается к проблеме мышления и речи, разлагая ее на элементы, он принимает стратегию человека, который прибегает к разложению воды на водород и кислород в своем поиске научного объяснения характеристик воды, ее способности к изменению. например, тушить пожар или его соответствие закону Архимеда. Этот человек, к своему огорчению, обнаружит, что водород горит, а кислород поддерживает горение.Ему никогда не удастся объяснить характеристики целого, анализируя характеристики его элементов. Точно так же психология, которая разлагает словесное мышление на элементы в попытке объяснить его характеристики, будет тщетно искать единство, характерное для целого. Эти характеристики присущи явлению только как единому целому. Когда целое разбирается на элементы, эти характеристики улетучиваются. В своей попытке реконструировать эти характеристики исследователю не остается ничего другого, как искать внешние, механические формы взаимодействия между элементами.
Поскольку в результате продукты теряют свои характеристики в целом, этот процесс не является формой анализа в полном смысле этого слова. В любом случае, это не «анализ» по отношению к проблеме, к которой он был предназначен. Фактически, с некоторым правом, его можно считать антитезой истинного анализа. Химическая формула воды имеет постоянное отношение ко всем характеристикам воды. Это относится к воде во всех ее формах. Это помогает нам понять характеристики воды, проявляющиеся в великих океанах или в капле дождя.Разложение воды на элементы не может привести к объяснению этих характеристик. Этот подход лучше понимать как средство перехода на более общий уровень, чем как средство анализа, как мы, например, как средство разделения в истинном смысле слова. Такой подход не способен пролить свет на детали и конкретное разнообразие отношений между мыслью и словом, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни; он неспособен проследить феномен от его первоначального развития в детстве до его последующего разнообразия.
Противоречивый характер этой формы анализа ясно проявляется в ее применении в психологических исследованиях. Вместо того, чтобы давать объяснение конкретных характеристик интересующего нас целого, он подчиняет это целое диктату более общих явлений. То есть целостное целое подчинено диктату законов, которые позволили бы нам объяснить то, что является общим для всех речевых явлений или всех проявлений мышления, речи и мышления как абстрактных обобщений.Поскольку она заставляет исследователя игнорировать единую и целостную природу изучаемого процесса, такая форма анализа приводит к глубокому заблуждению. Внутренние отношения единого целого заменяются внешними механическими отношениями между двумя разнородными процессами.
Нигде отрицательные результаты этой формы анализа не проявляются более явно, чем при исследовании мышления и речи. Это слово можно сравнить с живой клеткой в том смысле, что это единица звука и значения, которая содержит — в простой форме — все основные характеристики целостного феномена вербального мышления.Форма анализа, которая разбивает целое на элементы, эффективно разбивает слово на две части. Тогда перед исследователем, занимающимся феноменом вербального мышления, стоит задача установить некую внешнюю механическую ассоциативную связь между этими двумя частями единого целого.
По словам одного из самых важных представителей современной лингвистики, звук и значение в слове не связаны. Они объединены в знаке, но сосуществуют совершенно изолированно друг от друга.Неудивительно, что такая перспектива принесла только самые жалкие результаты в исследовании звука и значения языка. В отрыве от мысли звук теряет все уникальные свойства, присущие ему, как звуку человеческой речи, свойствам, которые отличают его от других типов звука, существующих в природе. В результате применения этой формы анализа к области вербального мышления были изучены только физические и психические характеристики этого бессмысленного звука, только то, что является общим для всех звуков в природе.То, что характерно для этой конкретной формы звука, осталось неизученным. Как следствие, это исследование не смогло объяснить, почему звук, обладающий определенными физическими и психическими характеристиками, присутствует в человеческой речи или как он функционирует как компонент речи. Точно так же изучение значения было определено как изучение концепции, концепции, существующей и развивающейся в полной изоляции от своего материального носителя. В значительной степени провал классической семантики и фонетики был прямым результатом этой тенденции отделять значение от звука, этого разложения слова на отдельные элементы.
Это разложение речи на звуки и значения также послужило основой для изучения развития речи ребенка. Однако даже самый полный анализ истории фонетики в детстве бессилен объединить эти явления. Точно так же изучение развития значения слов в детстве привело исследователей к автономной и независимой истории мышления ребенка, истории мысли ребенка, которая не имела никакого отношения к фонетическому развитию языка ребенка.
На наш взгляд, совершенно иная форма анализа является фундаментальной для дальнейшего развития теорий мышления и речи. Эта форма анализа основана на разделении сложного целого на единицы. В отличие от термина «элемент», термин «единица» обозначает продукт анализа, который обладает всеми основными характеристиками целого. Единица — жизненно важная и несводимая часть целого. Ключ к объяснению характеристик воды лежит не в исследовании ее химической формулы, а в изучении ее молекулы и ее молекулярных движений.Точно в том же смысле живая клетка является реальной единицей биологического анализа, поскольку она сохраняет основные характеристики жизни, присущие живому организму,
Психология, занимающаяся изучением сложного целого, должна это понимать. Он должен заменить метод разложения целого на его элементы методом разделения целого на его части. Психология должна определить те единицы, в которых присутствуют характеристики целого, даже если они могут проявляться в измененной форме.Используя этот способ анализа, он должен попытаться разрешить конкретные проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
Что же представляет собой единица, обладающая характеристиками, присущими целостному феномену вербального мышления, и не поддающаяся дальнейшей декомпозиции? На наш взгляд, такую единицу можно найти во внутреннем аспекте слова, в его значении.
По этому аспекту слова было проведено очень мало исследований. В большинстве исследований значение слова было объединено с набором явлений, который включает все сознательные представления или акты мысли.Существует очень тесная параллель между этим процессом и процессом, посредством которого звук, оторванный от смысла, сливается с множеством явлений, содержащих все звуки, существующие в природе. Следовательно, точно так же, как современная психология ничего не говорит о характеристиках звука, которые являются уникальными для звуков человеческой речи, она ничего не говорит о словесном значении, кроме того, которое применимо ко всем формам мышления и представления.
Это верно как для современной структурной психологии, так и для ассоциативной психологии.Мы познали только внешний вид слова, тот аспект слова, который непосредственно перед нами. Его внутренний аспект, его значение остается таким же неизученным и неизвестным, как и обратная сторона Луны. Однако именно в этом внутреннем аспекте слова мы находим потенциал для решения проблемы отношения мышления к речи. Узел, который представляет собой явление, которое мы называем вербальным мышлением , связан по значению слов.
Краткое теоретическое обсуждение психологической природы значения слов необходимо для прояснения этого момента.Ни ассоциативная, ни структурная психология не дает удовлетворительного взгляда на природу значения слов. Как показывают наши собственные экспериментальные исследования и теоретический анализ, сущность значения слова — внутренняя природа, которая его определяет, — не находится там, где ее традиционно искали.
Слово относится не к одному объекту, а к целой группе или классу объектов. Следовательно, каждое слово является скрытым обобщением . С психологической точки зрения значение слова — это прежде всего обобщение.Нетрудно заметить, что обобщение — это словесный акт мысли ; его отражение реальности радикально отличается от непосредственного ощущения или восприятия.
Было сказано, что диалектический скачок — это не только переход от материи, неспособной к ощущению, к материи, способной к ощущению, но и переход от ощущения к мысли. Это подразумевает, что реальность отражается в сознании в мышлении качественно иным образом, чем в непосредственном ощущении.Это качественное различие в первую очередь является функцией обобщенного отражения реальности. Следовательно, обобщение значения слова — это акт мышления в истинном смысле этого слова. Но в то же время значение является неотъемлемой частью слова; он принадлежит не только области мысли, но и области речи. Слово без значения — это не слово, а пустой звук. Слово без значения больше не принадлежит сфере речи. Нельзя сказать о значении слова то, что мы говорили ранее об отдельных элементах слова.Слово означает речь или это мысль? Это одновременно и одновременно; это единиц вербального мышления. Очевидно, что наш метод должен быть методом семантического анализа. Наш метод должен полагаться на аналитиков значимого аспекта речи; это должен быть метод для изучения вербального значения.
Мы можем разумно предположить, что этот метод даст ответы на наши вопросы, касающиеся взаимосвязи между мышлением и речью, поскольку эта взаимосвязь уже содержится в единице анализа.Изучая функции, структуру и развитие этой единицы, мы придем к пониманию многих вещей, имеющих прямое отношение к проблеме отношения мышления к речи и к природе вербального мышления.
Методы, которые мы собираемся применить в нашем исследовании взаимоотношений между мышлением и речью, позволяют проводить синтетический анализ сложного целого. Значение этого подхода иллюстрируется еще одним аспектом проблемы, который оставался в тени в предыдущих исследованиях.В частности, начальная и основная функция речи — коммуникативная. Речь — это средство социального взаимодействия, средство выражения и понимания. Метод анализа, который разлагает целое на элементы, отделяет коммуникативную функцию речи от ее интеллектуальной функции. Конечно, общепринято, что речь сочетает в себе функцию социального взаимодействия и функцию мышления, но эти функции были концептуализированы как существующие изолированно друг от друга, они были концептуализированы как действующие параллельно без взаимной взаимозависимости.Всегда считалось, что в речи так или иначе сочетаются обе функции. Но традиционная психология оставила совершенно неисследованными вопросы, такие как взаимосвязь между этими функциями, причина, по которой обе эти функции присутствуют в речи, природа их развития и природа их структурных отношений. Это во многом верно и для современной психологии.
Однако, в том же смысле, что значение слова является единицей мышления, также является единицей обеих этих речевых функций.Идею о том, что для социального взаимодействия необходима какая-то форма посредничества, можно считать аксиомой современной психологии. Более того, социальное взаимодействие, опосредованное чем-либо, кроме речи или другой знаковой системы — социальное взаимодействие, которое часто встречается, например, у животных, кроме человека, — чрезвычайно примитивно и ограничено. В самом деле, строго говоря, социальное взаимодействие посредством видов выразительных движений, используемых нечеловеческими животными, не следует называть социальным взаимодействием.Правильнее было бы назвать его загрязнением. Испуганный гусь, увидев опасность и разбудив стадо своим криком, не столько сообщает стаду то, что он видел, сколько заражает стадо своим страхом.
Социальное взаимодействие, основанное на рациональном понимании, на преднамеренной передаче опыта и мысли, требует некой системы средств . Человеческая речь, система, возникшая в связи с необходимостью социального взаимодействия в процессе труда, всегда была и всегда будет прообразом такого рода средств.Однако до недавнего времени этот вопрос сильно упрощался. В частности, предполагалось, что знак, слово и звук являются средствами социального взаимодействия. Как и следовало ожидать, эта ошибочная концепция является прямым результатом неправильного применения метода анализа, который начинается с разложения целого на его элементы. Это результат применения этого метода анализа ко всему кругу проблем, связанных с природой речи.
Предполагалось, что слово, как оно проявляется в социальном взаимодействии, является лишь внешним аспектом речи.Это подразумевало, что звук сам по себе может ассоциироваться с любым опытом, с любым содержанием психической жизни, и, следовательно, что он может использоваться для передачи или передачи этого опыта или содержания другому человеку.
Более сложный анализ этой проблемы и связанных с ней вопросов, касающихся процессов понимания и их развития в детстве, привел к совершенно иному пониманию ситуации. Оказывается, как невозможно социальное взаимодействие без знаков, так и невозможно без смысла.Чтобы передать опыт или какое-либо другое содержание сознания другому человеку, он должен быть связан с классом или группой явлений. Как мы уже указывали, это требует обобщения . Социальное взаимодействие предполагает обобщение и развитие словесного значения; обобщение становится возможным только с развитием социального взаимодействия. Высшие формы умственного и социального взаимодействия, которые являются такой важной характеристикой человека, возможны только потому, что посредством мышления человек отражает реальность в обобщенном виде.
Практически любой пример продемонстрировал бы эту связь между этими двумя основными функциями речи, между социальным взаимодействием и обобщением. Например, я хочу сообщить кому-нибудь о том, что мне холодно. Я, конечно, могу передать это выразительными движениями. Однако истинное понимание и общение происходят только тогда, когда я могу обобщить и назвать то, что я переживаю, только когда я могу соотнести свой опыт с определенным классом переживаний, которые известны моему партнеру.
Дети, не обладающие надлежащими обобщениями, часто не могут поделиться своим опытом. Проблема не в отсутствии подходящих слов или звуков, а в отсутствии подходящего понятия или обобщения. Без последнего понимание невозможно. Как указывает Толстой, ребенок обычно не понимает не самого слова, а концепта, который слово выражает (1903, с. 143). Слово почти всегда готово, когда есть концепция.Следовательно, может быть уместным рассматривать значение слова не только как единство мышления и речи , но как единство обобщения и социального взаимодействия, единство мышления и общения.
Эта постановка проблемы имеет огромное значение для всех вопросов, связанных с генезисом мышления и речи. Во-первых, он раскрывает истинный потенциал причинно-генетического анализа мышления и речи. Только когда мы научимся видеть единство обобщения и социального взаимодействия, мы начнем понимать реальную связь, которая существует между когнитивным и социальным развитием ребенка.Наше исследование направлено на решение обеих этих фундаментальных проблем: проблемы отношения мысли к слову и проблемы отношения обобщения к социальному взаимодействию.
Однако, чтобы расширить наш взгляд на эти проблемы, мы хотели бы упомянуть несколько проблем, которые мы не смогли решить непосредственно в нашем исследовании, вопросы, которые стали очевидны для нас только в процессе его проведения. В самом прямом смысле, наше признание важности этих вопросов является наиболее важным результатом нашей работы.
Во-первых, мы хотели бы поднять вопрос о взаимосвязи между звуком и значением в слове. Мы не занимались этим вопросом подробно в нашем собственном исследовании. Тем не менее, недавний прогресс в этом вопросе в лингвистике, кажется, напрямую связан с проблемой аналитических методов, которую мы обсуждали ранее.
Как мы уже предположили, традиционная лингвистика концептуализировала звук как независимый от значения в речи; он концептуализировал речь как комбинацию этих двух отдельных элементов.В результате отдельный звук считался основной единицей анализа при изучении звука в речи. Однако мы видели, что, когда звук отделен от человеческого мышления, он теряет характеристики, которые делают его уникальным звуком человеческой речи; он стоит в ряду всех звуков, существующих в природе. Вот почему традиционная фонетика в первую очередь занимается не психологией языка, а акустикой и физиологией языка. Это, в свою очередь, является причиной того, что психология языка так беспомощна в своих попытках понять взаимосвязь между звуком и значением в слове.
Что же является наиболее важной характеристикой звуков человеческой речи? Работа современной фонологической традиции в лингвистике — традиции, которая была хорошо принята в психологии — делает очевидным, что основная характеристика звука в человеческой речи состоит в том, что он функционирует как знак, связанный со значением. Звук как таковой, звук без смысла, не является единицей, в которой связаны различные аспекты речи. Не отдельный звук, а фонема является основной единицей речи.Фонемы — это единицы, которые не подлежат дальнейшему разложению и которые сохраняют характеристики целого, характеристики означающей функции звука в речи. Когда звук не является значимым звуком, когда он отделен от значимого аспекта речи, он теряет эти характеристики человеческой речи. В лингвистике, как и в психологии, единственный продуктивный подход к изучению звука в речи — это тот, который полагается на разделение целого на его единицы, единицы, которые сохраняют характеристики звука и значения в речи.
Это не подходящее место для подробного обсуждения достижений, которые были достигнуты благодаря применению этого метода анализа в лингвистике и психологии. Однако, на наш взгляд, эти достижения являются наиболее эффективной демонстрацией его ценности. Мы использовали этот метод в своей работе.
Ценность этого метода можно проиллюстрировать, применив его к широкому кругу вопросов, связанных с проблемой мышления и речи. Однако на данный момент мы можем упомянуть только некоторые из этих проблем.Это позволит нам указать на потенциал будущих исследований с использованием этого метода и прояснить значение метода для всей этой системы проблем.
Как мы предполагали ранее, проблема взаимоотношений и связей между различными психическими функциями была недоступна традиционной психологии. Мы считаем, что он доступен для исследователя, который желает применить метод единиц.
Первый вопрос, который возникает, когда мы рассматриваем отношение мышления и речи к другим аспектам жизни сознания, касается связи между интеллектом и аффектом. Среди основных недостатков традиционных подходов к изучению психологии — изоляция интеллектуального от волевых и аффективных аспектов сознания. Неизбежным следствием изоляции этих функций стало превращение мышления в автономный поток. Само мышление стало мыслителем мыслей. Мышление было отделено от жизненной силы, мотивов, интересов и наклонностей мыслящего человека. Мышление превратилось либо в бесполезный эпифеномен, процесс, который ничего не может изменить в жизни и поведении человека, либо в независимую и автономную первобытную силу, которая через свое вмешательство влияет на жизнь сознания и жизнь личности.
Изолируя мышление от аффекта с самого начала, мы фактически лишаем себя возможности причинного объяснения мышления. Каузальный анализ мышления предполагает, что мы определяем его движущую силу, что мы определяем потребности, интересы, стимулы и тенденции, которые направляют движение мысли в том или ином направлении. Точно так же, когда мышление изолировано от аффекта, исследование его влияния на аффективные или целенаправленные аспекты психической жизни эффективно исключается.Причинный анализ психической жизни не может начинаться с приписывания мысли магической силы, определяющей поведение человека, способности определять поведение через одну из внутренних систем человека. Столь же несовместимо с причинным анализом превращение мысли в излишний придаток поведения, в его слабую и бесполезную тень.
Направление, в котором мы должны двигаться в нашей попытке разрешить эту жизненно важную проблему, указывает метод, основанный на анализе сложного целого на его части.Существует динамическая значимая система, которая составляет единство аффективных и интеллектуальных процессов. Каждая идея содержит некоторый остаток аффективного отношения человека к тому аспекту реальности, который она представляет. Таким образом, анализ на единицы позволяет увидеть взаимосвязь между потребностями или склонностями человека и его мышлением. Это также позволяет нам видеть противоположные отношения, отношения, которые связывают его мысль с динамикой поведения, с конкретной деятельностью личности.
Мы отложим обсуждение нескольких связанных проблем. Эти проблемы не были непосредственным объектом нашего исследования в данной книге. Мы кратко обсудим их в заключительной главе этой работы в рамках нашего обсуждения перспектив, которые лежат перед нами. На этом этапе мы просто повторим утверждение о том, что метод, который мы применяем в этой работе, не только позволяет нам увидеть внутреннее единство мышления и речи, но и позволяет нам проводить более эффективное исследование взаимосвязи вербального мышления и вся жизнь сознания.
В качестве нашей последней задачи в этой первой главе мы обрисовываем общую организацию книги. Как мы уже говорили, нашей целью было разработать комплексный подход к чрезвычайно сложной проблеме. Сама книга состоит из нескольких исследований, посвященных отдельным, но взаимосвязанным вопросам. Включены несколько экспериментальных исследований, а также другие критические или теоретические исследования. Мы начинаем с критического анализа теории речи и мышления, которая представляет собой лучшее представление о проблеме в современной психологии.Тем не менее, это полная противоположность нашей точки зрения. В этом анализе мы затрагиваем все вопросы, лежащие в основе общего вопроса о взаимосвязи между мышлением и речью, и пытаемся проанализировать эти вопросы в контексте наших текущих эмпирических знаний. В современной психологии исследование такой проблемы, как отношение мышления к речи, требует, чтобы мы участвовали в концептуальной борьбе с общетеоретическими перспективами и конкретными идеями, которые противоречат нашим собственным.
Вторая часть нашего исследования представляет собой теоретический анализ данных, касающихся развития (как филогенетического, так и онтогенетического) мышления и речи.С самого начала мы пытаемся определить генетические корни мышления и речи. Неудача в этой задаче была основной причиной всех ложных взглядов на проблему. Экспериментальное исследование развития представлений в детстве, исследование, состоящее из двух частей, составляет основу этой второй части исследования. В первой части этого исследования мы рассматриваем развитие того, что мы называем «искусственными концепциями», концепций, которые формируются в экспериментальных условиях. Во втором мы пытаемся изучить развитие реальных представлений ребенка.
В заключительной части нашей работы мы пытаемся проанализировать функцию и структуру общего процесса вербального мышления. В это обсуждение включены как теория, так и эмпирические данные.
Все эти исследования объединяет идея развития, идея, которую мы пытаемся применить в нашем анализе значения слова как единства речи и мышления.
Frontiers | Социально взвешенное кодирование произнесенных слов: двухмаршрутный подход к восприятию речи
Введение
Произносимые слова очень разнообразны.Одно слово никогда не может быть произнесено одинаково дважды. Как слушатели, мы регулярно встречаем ораторов разного возраста, пола и акцента, что увеличивает количество вариаций, с которыми мы сталкиваемся. То, как слушатели понимают произносимые слова так же быстро и точно, как они понимают, несмотря на это разнообразие, остается центральным вопросом теории лингвистики. Хотя вариации часто формулируются как проблема , в повседневной жизни мы живем с относительно небольшим количеством коммуникативных сбоев. С нашей точки зрения, вариация — это ключ к объяснению того, как слушатели понимают произносимые слова, произносимые с разной скоростью и стилями разными ораторами, каждый со своим идиолектом, каждый из которых является членом более широкого диалекта.Мы предлагаем, чтобы изученные акустические паттерны отображались одновременно на лингвистические представления и социальные представления, и предлагаем слушателям использовать эту информацию с вариативными указателями и кодировать речевые сигналы непосредственно для языковых и социальных представлений в тандеме. Наш подход включает в себя традиционный путь кодирования речи в языковые представления и предлагаемый второй путь, с помощью которого слушатели кодируют акустические паттерны для социальных представлений (например, акустические сигналы, составляющие ясную речь , сохраняются как звуковые паттерны независимо от лексики).Этот второй путь обеспечивает механизм так называемого социально-взвешенного кодирования . Социальное взвешивание позволяет редким, но социально значимым токенам приводить к надежным представлениям, несмотря на то, что они реже используются по сравнению с очень часто встречающимися токенами. Социальный вес объясняет различные эффекты распознавания и запоминания произнесенных слов, которые нелегко учесть в текущих моделях, которые в значительной степени полагаются на частоту необработанных токенов (часто оцениваемую по подсчетам корпуса). Мы представляем гипотезу, которая рассматривает лингвистических переживаний с точки зрения слушателя как количественную и качественную меру.
В этой статье мы исследуем объем литературы, в которой исследовалось восприятие и распознавание слов с различными вариантами произношения (например, центр, созданный со словом-медиальным [t] или без него; город, созданный с помощью слова-медиального нажатия,, или с [t]). Мы подчеркиваем парадокс, который возникает из-за акцента на репрезентациях (в отличие от механизмов, которые строят и получают доступ к этим репрезентациям) и из периферийной трактовки фонетики на уровне слов (см. Keating, 1998). Поступая таким образом, мы освещаем некоторые данные, которые сложно обработать современной теории.Во-первых, все варианты произношения одинаково хорошо распознаются слушателями в задачах немедленного распознавания, несмотря на огромную разницу в наблюдаемых показателях частоты вариантов (которую мы называем эквивалентностью распознавания ). И слова, произносимые с редкими, но идеализированными формами Чтобы учесть как эквивалентность распознавания, так и неравенство памяти, мы не только отличаем атипичные формы от типичных, но также различаем различные атипичные формы. Это различие необходимо, поскольку идеализированных атипичных форм запоминаются лучше, чем неидеализированные формы (типичные или атипичные).Для этого мы представляем новый взгляд на то, как строятся лексические представления и как к ним можно получить доступ как на основе количественного, так и качественного опыта. В частности, мы предполагаем, что социально значимые токены кодируются с большей силой (за счет повышенного внимания к стимулу), чем как типичные, так и атипичные неявные токены (которые мы называем с социальным весом ). Наш подход предполагает, что представление, полученное из одного экземпляра сильно закодированного социально значимого токена, может быть таким же надежным, как и представление, полученное из большого количества менее значимых токенов по умолчанию.Большая часть работ по восприятию речи посвящена исследованию сопоставления переменных сигналов «многие к одному» с одним лингвистическим представлением. Вместо этого мы применяем подход «один ко многим», в котором одна речевая строка сопоставляется с несколькими социальными и лингвистическими представлениями. Мы рассматриваем речь как многогранный источник информации и придерживаемся точки зрения, согласно которой понимание языка является результатом интерактивного вклада как социальной, так и лингвистической информации.
Чувствительность слушателя к фонетической вариации во время восприятия и узнавания
Более 20 лет назад было обнаружено, что слуховая память на акустические события очень детализирована (Schacter and Church, 1992; Nygaard et al., 1994; Грин и др., 1997; Найгаард и Писони, 1998; Bradlow et al., 1999). Черч и Шактер (1994), например, исследовали имплицитную память для произнесенных слов с помощью серии из пяти экспериментов по праймингу и обнаружили, что слушатели сохраняют подробные акустические сигналы для интонационного контура, эмоциональной просодии и основной частоты. Однако слушатели не сохраняют детальную память о различиях амплитуд, что позволяет предположить, что слуховая память для речи является одновременно очень подробной и избирательной. Это открытие, наряду с годами экспериментальной поддержки, изменило взгляд на эту область, отойдя от давнего предположения, что фонетические вариации в речи — это избыточный шум, который отфильтровывается по мере того, как речевой сигнал отображается на лингвистические единицы более высокого уровня.Вместо этого было обнаружено, что вариация является неотъемлемой частью лексических представлений и доступа к этим представлениям. Годы исследований эпизодических лексиконов также привели к появлению высокопродуктивной области исследований, изучающей влияние фонетически обусловленных социальных вариаций на восприятие речи (обзоры см. В Drager, 2010 и Thomas, 2002). Социальная изменчивость с фонетическим сигналом относится к тем акустическим свойствам речи, которые указывают на атрибуты говорящего (например, возраст, пол, акцент, диалект, эмоциональное состояние, интеллект) или социальную ситуацию (например,g., осторожный или непринужденный стиль речи). Слушатели используют воспринимаемые социальные характеристики говорящего, чтобы направлять отображение акустических сигналов в лексические элементы (Niedzielski, 1999; Strand, 1999, 2000; Hay et al., 2006a, b; Babel, 2009; Staum Casasanto, 2009; Hay and Drager , 2010; Мансон, 2011). Когда социальные характеристики и акустический вход не совпадают, обработка может замедляться (Koops et al., 2008) или ухудшаться (Rubin, 1992). Тем не менее, когда социальная характеристика, на которую указывает сигнал, совпадает с речевым сигналом, отображение акустического сигнала в лексические представления может быть улучшено (McGowan, 2011; Szakay et al., 2012). В этой литературе установлено, что память на произносимые слова очень специфична и что лингвистические представления строятся из подробных примеров произнесенных слов.
Одним из следствий хранения определенных экземпляров (или эпизодов ) слов является то, что слушатели не сохраняют единственное представление для каждого лексического элемента. Вместо этого лексическое представление возникает из кластеризации — в некотором многомерном акустическом пространстве — переживаний слушателя, соответствующих определенному лексическому элементу.Были предложены два известных механизма, объясняющих лексический доступ к сгруппированным эпизодам (Goldinger, 1996, 1998; Johnson, 1997, 2006). Хотя механизмы немного различаются, они оба основаны на схожем принципе: при воздействии речевого сигнала отдельные сохраненные эпизоды по-разному активируются в зависимости от акустического сходства с входящим речевым сигналом, а лексическое представление выбирается на основе количества активации, полученной каждым из его составляющих эпизодов. В обоих случаях доступ между входящим речевым сигналом и представлениями на уровне слов является прямым.Прямой доступ к эпизодическим лексическим репрезентациям был поддержан большим объемом работ. Знание голоса конкретного говорящего может улучшить распознавание новых слов (Nygaard and Pisoni, 1998), с определенными акустическими сигналами, показывающими дифференциальный вес при использовании для доступа к лексическим представлениям (Bradlow et al., 1999; Nygaard et al., 2000). Кросс-лингвистические различия, такие как классическая сложность носителей японского языка с различием английского / r / — / l / (долгое время относившееся к фонемам носителей языка, напримерg., Best et al., 2001) не проявляются в задаче ускоренного распознавания, которая заставляет различение быть более психоакустическим. Ожидаемые различия проявляются, когда у слушателей есть достаточно времени, чтобы сравнить входной акустический сигнал непосредственно с лексиконом (Johnson, 2004, Johnson and Babel, 2010). Наконец, литература по фонетически управляемым социальным вариациям предполагает прямой лексический доступ (например, Munson, 2010). Strand (2000), например, обнаружил, что голоса, которые являются более стереотипными мужскими (или женскими), повторяются быстрее, чем менее стереотипные голоса.
Прямое отображение речи в лексические представления — не единственный действующий механизм; слушатели также сопоставляют речь с более мелкими сублексическими языковыми единицами. Подкатегорические несоответствия в тонких фонетических деталях давно известны тем, что замедляют фонетические суждения слушателя, даже когда окончательные категориальные результаты остаются неизменными (Whalen, 1984, 1989). Слушатели используют специфические для говорящего свойства распределения, чтобы сместить границы категорий долексических (подобных фонемам) категорий и, что особенно важно, могут обобщить их по лексикону (см. Sumner, 2011 и Cutler et al., 2010 соответственно). Язык дискурса может изменить способность слушателя различать границы категорий гласных при восприятии отдельных слов. Например, в задаче категоризации гласных носители шведского языка с высоким уровнем владения английским языком более надежно определили гласные в континууме набор-сб , когда инструкции задания были на их родном шведском языке, чем на английском (Schulman, 1983). Кроме того, слушатели смещают границы категоризации фонем, когда есть сегментарные акустические свидетельства, указывающие на коартикуляцию (Mann, 1980; Mann and Repp, 1981; Holt et al., 2000). И слушатели используют это свидетельство коартикуляции, как только оно становится доступным в речевом сигнале (Lahiri and Marslen-Wilson, 1991; Ohala and Ohala, 1995; Beddor et al., 2013).
В различных исследованиях появились доказательства, подтверждающие мнение, что слушатели напрямую сопоставляют речь с лексическими представлениями, и посредством более мелких сублексических фрагментов. Эти и другие открытия побудили McLennan et al. (2003), чтобы постулировать гибридную модель лексического доступа, согласно которой как лексические, так и суб-лексические фрагменты являются центральными в процессе восприятия речи (см. Также Goslin et al., 2012 за дополнительную поддержку). Мы считаем, что как прямой, так и опосредованный лексический доступ подкрепляется различными направлениями исследований, хотя наш подход не зависит от этого различия. Мы принимаем эти работы как свидетельство того, что слушатели очень чувствительны к тонким акустическим вариациям в речи и что эти вариации влияют на лингвистические представления. И модели опосредованного, и прямого доступа разделяют взгляд на фонетические вариации как на сигнал к лингвистическим представлениям (которые, в свою очередь, могут активировать или не активировать социальные представления).Мы предполагаем, что не менее важно учитывать социальное значение, передаваемое фонетической вариацией, независимо от лингвистических представлений, чтобы объяснить, как слушатели понимают произносимые слова. С этой точки зрения, фонетические вариации указывают на звуки, слова, атрибуты говорящего и ситуационную информацию, и их интерпретация вместе приводит к пониманию разговорного языка.
Фонетическая вариация, эквивалентность распознавания и неравенство памяти
Слушатели слышат множество экземпляров слова и должны понимать эти переменные формы как одно слово, а не другое.То есть слушатели должны сопоставить переменную токенов из одного слова типа с этим типом . Это нетривиальная задача, поскольку минимальные фонетические различия часто указывают на разные лексические элементы. К этой проблеме сопоставления «многие к одному» традиционно подходили в стиле или / или : акустические маркеры либо сопоставляются с конкретными, либо с абстрактными представлениями (хотя альтернативный подход см. В McLennan et al., 2003). Эта точка зрения «или / или» привела к появлению литературы, полной парадоксальных результатов.
Рассмотрим процессы / t /-восстановления в американском английском (AE). Слово лепесток обычно звучит как слово педаль . Фактически, подобные слова произносятся со словосочетанием «срединное нажатие» в 97% случаев (Patterson and Connine, 2001; Tucker, 2011). Независимо от того, что мы думаем, что говорим, мы редко произносим a [t] в этих словах. Пара / [t] — это пара вариантов произношения , где два звука могут быть произнесены в одном и том же фонологическом контексте: один фонетически случайное производство с частым, а другой фонетически осторожное производство с редким [t].Другие пары (или наборы) вариантов произношения существуют в AE. Слово типа center обычно звучит как sen-ter , а не sen-ter (встречается без a [t] во всех 53 из 53 случаев в Buckeye Corpus; Pitt, 2009), и такое слово, как флейта , обычно получается без слышимого финального [t] -выпуска (см. Sumner and Samuel, 2005).
Свертывание исследований, изучающих распознавание слов с различными вариантами произношения, приводит к парадоксу репрезентации (Sumner et al., 2013). Этот парадокс лучше всего иллюстрируют два концептуально идентичных исследования, в которых изучается восприятие слов с медиальным / t /. С одной стороны, исследуя восприятие слов, произносимых с медиальным [t] по сравнению с медиальным (например, bai [t] ing против baiing), Коннин (2004) обнаружил, что слушатели чаще идентифицируют лексемы как слова (а не как слова). когда токены содержали, более частый вариант, в отличие от [t], редкий, идеализированный вариант. Этот вывод аналогичен результатам других работ, показывающих преимущество более типичной формы (например,г., Nygaard et al., 2000). С другой стороны, Pitt (2009) исследовал восприятие слов с постназальным [t] или без него (например, center , произведенный как центральный против cen [_] er), и обнаружил, что слушатели распознавал токены как слова чаще, когда токены содержали нечастое [t] вместо более частого [n_]. Этот вывод согласуется с другими работами, показывающими пользу канонической или того, что мы называем идеализированной формой (например, Andruski et al., 1994; Gaskell and Marslen-Wilson, 1996).Парадокс заключается в том, что эти два концептуально идентичных исследования (и множество других подобных исследований) показывают, казалось бы, противоречивые результаты: как часто неидеализированные формы , так и нечастые идеализированные формы демонстрируют преимущества обработки перед другими формами.
В этой литературе обычно исследуются эффекты слов с различными вариантами произношения независимо от тонких, но значимых фонетических паттернов на уровне слов, которые варьируются вместе с каждым вариантом (см. Также Mitterer and McQueen, 2009).Как обсуждалось в разделе «Чувствительность слушателя к фонетическим вариациям во время восприятия и узнавания», хорошо известно, что слушатели очень чувствительны к тонким колебаниям речи (например, McMurray and Aslin, 2005; Clayards et al., 2008; McMurray et al. , 2009). Чтобы проиллюстрировать, почему важно учитывать фонетические вариации на уровне слов, мы снова сосредоточимся на двух концептуально схожих исследованиях. Во-первых, Андруски и др. (1994) исследовали семантическое праймирование целей простыми числами, начиная с глухих выдыхаемых остановок (например,г., кошка – СОБАКА). Они обнаружили, что распознаванию цели способствовали семантически связанные простые числа, начинающиеся с полностью выдыхаемых безмолвных остановок, но не те, которые начинались со слегка придыхаемых остановок, хотя вариант с уменьшенным вдохом более типичен для естественной речи. В этом случае пара вариантов произношения (полностью придыхаемые или слегка придыхаемые глухие упоры) была исследована без учета общей фонетической композиции слова: слегка придыхаемые лексемы были созданы путем цифрового удаления средней части стремления из осторожно произнесенные полностью аспирированные жетоны.Это привело к созданию слегка придыхаемого варианта с тщательно артикулированными фонетическими паттернами (например, нередуцированные гласные, более длительные отрезки) — сочетание, которое, вероятно, приведет к восприятию звонков для ушей AE (Ganong, 1980; Sumner et al., 2013) . И поскольку фонетические несоответствия низкого уровня обходятся дорого в задачах восприятия (см. Marslen-Wilson and Warren, 1994), преимущество идеализированного варианта может быть связано не с доступом к идеализированному представлению, а с расходами, связанными с несоответствующей формой; требуя альтернативного объяснения.
Самнер и Самуэль (2005) использовали парадигму семантического прайминга (аналогичную Andruski et al., 1994), чтобы исследовать влияние вариации / t / в конце слова на распознавание устных слов. Они исследовали распознавание целей (например, музыки), которым предшествуют семантически связанные (например, флейта) или несвязанные (например, месиво) простые слова. Связанные простые числа включали слова, образованные с полностью высвобожденным [t], коартикулированным невыпущенным, гортанной остановкой и произвольным вариантом (отличающимся от / t / одним признаком, например [s] в floose ).Важно отметить, что все варианты произносились естественным образом и обычно содержали сопутствующие сигналы на уровне слов (например, глоттализация гласных), а не вырезанные или сращенные стимулы. В отличие от Andruski et al. (1994); Самнер и Самуэль (2005) обнаружили, что все словосочетания (за исключением произвольного варианта) в равной степени способны облегчить распознавание семантически связанных целей. В обоих исследованиях также различались межстимульные интервалы, но с разными результатами. Андруски и др. (1994) обнаружили, что фонетически неконгруэнтные слегка наддувные стопы обходятся при коротких ISI, но не при длинных.Самнер и Сэмюэл (2005) обнаружили эквивалентность вариантов как для коротких, так и для длинных ISI. Это может свидетельствовать о том, что стоимость более типичного варианта с небольшой наддувкой наряду с преимуществами для варианта с полной наддувкой, о которых сообщают Andruski et al. (1994) возникли либо из-за фонетического несоответствия, как объяснено выше, либо из-за сравнения неповрежденной словоформы и измененной.
Самнер (2013) пошел еще дальше и утверждал, что преимущество идеализированных форм в исследованиях, сравнивающих нечастый, идеальный вариант в тщательно продуманном словесном фрейме с частым, неидеальным вариантом в том же тщательном словесном фрейме, несколько искусственно.Она исследовала распознавание произнесенных слов с медиальной последовательностью / nt /, например, осколок . В задаче семантического прайминга слова, созданные с помощью [t] (например, [nt], splin [t] er, редко встречающиеся идеальные формы), и слова, созданные без [t] (например, [n_], splin_er, частые неидеальные формы) в равной степени способны облегчить распознавание семантически связанной цели (например, дерева), когда они были помещены в соответствующие словесные рамки. Что критически важно, затраты возникают только тогда, когда частый вариант [n_] помещен в неконгруэнтный, тщательно сформулированный фонетический словесный фрейм.Подобные асимметрии возникают в исследованиях, изучающих восприятие и распознавание ассимилированных вариантов в зависимости от рассмотрения фонетических вариаций. Например, Гаскелл и Марслен-Уилсон (1993) обнаружили, что слушатели распознают псевдослово, подобное wickib , как слово wickib , когда оно произносится перед словом, которое начинается с губ (ассимилирующий контекст). Они объяснили этот эффект зависимостью слушателей от следующего контекста при интерпретации основного звука слова.Но можно утверждать, что при создании wickib с [b] вместо естественно ассимилированного токена критическая коартикуляционная информация удаляется из речевого сигнала, заставляя слушателей зависеть от контекста. Гоу (2001, 2002), используя парадигму праймирования сентенциальной формы, показал, что естественно ассимилированные носовые части (те, которые включают остаточные фонетические сигналы к венечному месту артикуляции) обрабатываются однозначно как предполагаемое слово (например, губно-ассимилированный / n / в « зеленых бобов» не идентично [м], и это слово не воспринимается как [мрачный]).Что еще более интересно, это было правдой, даже когда вызывающий ассимиляцию следующий фонологический контекст не был представлен слушателям (Gow, 2003).
McLennan et al. (2003) также использовали произносимые естественным образом слова с medial-t и обнаружили, что слушатели узнают слова, произносимые с помощью [t], и слова, произносимые с помощью, наравне друг с другом. В этой литературе подчеркивается роль фонетических вариаций в распознавании устных слов, но также освещается теоретическая проблема: при естественном воспроизведении словоформы с совершенно разными частотами знаков одинаково хорошо распознаются в задачах непосредственной обработки.Еще больше запутывая картину, Самнер и Катаока (2013) обнаружили для одноязычной популяции слушающих AE, что простые числа Rhotic AE облегчают распознавание семантически связанных целей (например, slend-er – THIN). Они также повторили более раннее открытие для этой популяции, что неротические простые числа, производимые говорящими с акцентом Нью-Йорка (NYC), не способствуют распознаванию этих целей (например, slend-uh-THIN). Важно отметить, что слова, оканчивающиеся на один и тот же неротический вариант, действительно способствовали распознаванию семантически связанной цели, когда они были произведены говорящими на неротическом британском английском (BE).В этом случае слова, произнесенные говорящим без акцента, распознавались наравне со словами, произнесенными говорящим с внутренним акцентом. Эти исследования проливают свет на то, что мы называем эквивалентностью распознавания . В крайнем случае, описанном Самнером и Катаока (2013), можно ожидать различий в распознавании слов, которые происходят от двух разных говорящих без акцента, и мы можем даже предположить, что различия в количественном воздействии предсказывают Нью-Йорк — БЫТЬ расколотым. Но любой показатель частоты будет включать в себя большие различия в воздействии на продукцию, произносимую говорящим с внутренним акцентом (AE) по сравнению с говорящим без акцента (BE).Эта эквивалентность, наряду с описанными выше, проливает свет на пределы объяснительной силы количественных показателей частоты и наводит на мысль, что необходимо рассмотреть и качественную меру.
В тандеме с эквивалентностью распознавания связано открытие, что слова с редкими, но идеализированными вариантами запоминаются лучше, чем слова с частыми, неидеализированными вариантами. В целом эквивалентность гораздо менее вероятна в долгосрочных исследованиях. Мы называем это неравенство памяти .Самнер и Самуэль (2005) исследовали влияние вариантов / t / в конце слова на долгосрочные задачи неявного и явного распознавания. Базовый дизайн неявной (долгосрочное повторение на основе времени реакции) или явной (старое / новое распознавание) задачи включает представление слушателям первоначального списка для изучения и измерение эффективности слов, повторяемых во втором тестовом списке, представленном 10–20 мин. позже. Они обнаружили, что производительность во второй презентации показала улучшение памяти для идеализированного [t] варианта в обоих типах задач.То есть слушатели запомнили слова, которые изначально были представлены с отпущенным стопом, лучше, чем те, которые изначально были представлены либо с невыпущенным глоттальным стопом, либо с голосовым стопом. Обратите внимание, что не было намека на абстракцию, и в этом случае должен был возникнуть высокий уровень ложных срабатываний для слов, изначально представленных с другими вариантами (см., Однако, McLennan and Luce, 2005 для аргументов в пользу абстракции, хотя и в гораздо более короткие сроки. Рамка). Вместо этого у слушателей была очень подробная память на слова с редкими идеальными формами.
Одно из возможных объяснений неравенства памяти состоит в том, что слова с final-Release [t] акустически более заметны, чем их глоттализованные невыпущенные или глоттальные аналоги. Этот тип объяснения акустической значимости может предсказать, что слова с final-Release [t] кодируются сильнее, чем слова с двумя другими вариантами. Другой вариант состоит в том, что два варианта с голосовыми гласными сделали выпущенную версию более контекстуально заметной и, следовательно, лучше запоминались при второй презентации.На первый взгляд оба варианта кажутся возможными, но дальнейшие исследования сделали это маловероятным. Во-первых, Самнер и Сэмюэл (2009) исследовали влияние вариантов с перекрестным ударением. Конкретный эксперимент, имеющий отношение к текущему обсуждению, — это задача долгосрочного прайминга формы, в ходе которой проверялось распознавание слов, оканчивающихся на ротический ( slend-er ) или неротический ( slend-uh ) вариант произношения. Они исследовали три группы слушателей: группу слушателей AE, менее знакомых с неротическим произношением, группу говорящих на ротическом языке, которые родились и выросли в неротическом диалектном регионе Нью-Йорка (Covert-NY), и группу не-ротиков. Ротические спикеры, которые родились и выросли в диалектном регионе Нью-Йорка (Оверт-Нью-Йорк).Неудивительно, что в этой задаче, основанной на долговременной памяти, слушатели AE и Covert-NYC распознали свой ротический вариант с акцентом с большей скоростью и точностью, чем менее знакомый неротический вариант без акцента. Что было удивительно, так это то, что слушатели Overt-NYC также показали лучшую память для форм AE. В то время как отчет об акустической значимости (присущий звуку или созданный посредством контекстных сравнений) может поддерживаться в случае окончательного выпуска [t], нет достаточных оснований предполагать, что гласный гласный гласный более заметен, чем гласный без рота особенно, когда одна и та же закономерность сохраняется во всех группах слушателей.
Теория, которая сильно зависит от количественной меры частоты, будет иметь трудности с этой асимметрией. С одной стороны, все варианты произношения распознаются одинаково хорошо — достаточно быстро, чтобы способствовать ассоциативному распространению по лексике. С другой стороны, нетипичное произношение слова запоминается лучше, чем более типичное произношение. Согласование этих результатов с помощью понятия абстрактных представлений не увенчается успехом: в таких теориях варианты произношения должны обобщаться до одной абстрактной формы с течением времени, что в долгосрочной перспективе приведет к еще большему количеству ложных приписываний идеальной формы.Это предсказание противоречит многолетним исследованиям, показывающим очень специфичную память на языковые события. Счет, основанный исключительно на частотах, сталкивается с проблемами иного рода, поскольку эквивалентность распознавания трудно уловить в теориях, которые зависят от глобальной скорости производства (либо по языку, либо по группе говорящих) в качестве предиктора лексического доступа. Мы предполагаем, что решение будет исходить из понимания того, как различные словоформы кодируются в первую очередь и как составляются кластеры представлений, происходящих из разно закодированных произнесенных слов.
Типичность, частота и асимметричное кодирование произносимых слов
Чтобы предсказать как эквивалентность распознавания, так и неравенство памяти с точки зрения представления, должны выполняться три условия. Во-первых, нам нужно различать типичные и нетипичные токены. Во-вторых, нам нужно уловить различия между разными нетипичными постановками. Например, не все нетипичные токены запоминаются лучше, чем типичные токены. Скорее, лучше запоминаются только нетипичные, но идеализированные токены, чем неидеальные (типичные или нетипичные) токены.Наконец, нам нужно понять, как токены, которые лучше всего соответствуют редко используемым кластерам токенов, могут быть распознаны наравне с токенами, которые лучше всего соответствуют густонаселенным, часто используемым кластерам токенов. Для первого условия разумно традиционное понятие частоты как меры типичности. Это позволяет нам связать наше предложение с прошлыми работами и опираться на текущую теорию. Для второго условия мы предлагаем, чтобы социально значимые токены кодировались с большей силой (за счет повышенного внимания к стимулу), чем как типичные, так и атипичные несущественные токены.Для третьего условия мы предполагаем, что устойчивость кластера и акустическое перекрытие с типичными кластерами объясняют эквивалентность.
Наш взгляд на взаимодействие между частотой вариантов произношения, частотой фонетических кадров на уровне слова и силой кодирования показан на Рисунке 1. Верхний и средний графики отображают частоту различных вариантов произношения (A:,, [t]) и фонетических. рамки (B: [fl], [fl], [flu:]) для определенного лексического элемента (например, flute ). В центре каждого распределения показан соответствующий типичный вариант произношения или фонетическая рамка.С этой точки зрения, слово с нетипичным вариантом может быть, а может и не быть акустически похоже на слово с типичным вариантом. Например, акустическая реализация глоттального конца слова аналогична типичному воспроизведению (например, голосовая гласная, длина гласной, слабое / отсутствующее высвобождение и т. Д.). Эпизодические теории лексического доступа дают представление о том, как эти словоформы приводят к активации определенного лексического элемента. Джонсон (2006) обнаружил, что слова, воспроизводимые в типичных женских голосах, распознаются быстрее, чем слова, воспроизводимые в нетипичных женских голосах.Это преимущество типичности возникает потому, что лексический доступ акустически опосредован: речевая строка активирует акустически похожие эпизоды. Фонетический состав слова, производимого типичным женским голосом, будет акустически подобен густонаселенному центру распределения, и в результате следует высокий уровень активации. Фонетическая композиция слова, производимая менее типичным голосом, отображается в разреженный кластер, и активация задерживается. Это преимущество типичности, обнаруженное Джонсоном, дает прямое объяснение того, как эффекты прототипа проявляются в обработке речи (Pierrehumbert, 2001).Например, не обязательно слышать конкретного типичного женского голоса для того, чтобы голос выиграл от резонансной активации акустически похожих эпизодов. Разрыв, изображенный на рисунке 1 (A, B), символизирует среднюю точку распределения, которая может представлять собой пробел прототипа.
РИСУНОК 1. Схематическое изображение частоты варианта произношения (A) , фонетического кадра , частоты (B) и кластерного представления (C) для слов, оканчивающихся на три варианта t-final (используются здесь как символизирует другие виды вариаций). Как показано, частота двух вариантов нетипичного произношения может быть одинаковой, но их отношение к типичному произношению может отличаться с точки зрения фонетической вариации на уровне слова. На нашей схеме представления кластера, форма соответствует варианту произношения, размер кластера соответствует устойчивости кластера, а размер токена соответствует силе кодирования. Перекрытие между атипичной окончательной формой голосовой щели и типичной окончательной формой голосовой щели, не высвобожденной, представляет собой преимущество типичности, применяемое к атипичной форме.
Возвращаясь к словам с заключительным- / t /, таким как flute , прототипом этого лексического элемента является некоторое производство слова с невыпущенным (рис. 1A), с соответствующим небрежно сформулированным фонетическим фреймом (рис. 1B). Нетипичные постановки с акустическими характеристиками, близкими к центру распределения, выигрывают от активации типичных эпизодов. Это ожидается для атипичной окончательной формы голосовой щели. Хотя он отличается от типичной формы вариантом произношения финального звука, существует акустическое перекрытие с типичным кластером на уровне слов (рис. 1C).Однако социально идеализированная форма [грипп: t] нетипична в двух отношениях. Во-первых, нетипичный вариант произношения. Во-вторых, фонетический состав слова также нетипичен, поскольку [t] обычно изменяется с осторожными речевыми моделями. Ни в том, ни в другом случае эта форма не получит столько преимуществ от активации подобия на основе частоты, сколько прототип. Здесь ideal включает вариант и фонетическую рамку на крайних краях обоих дистрибутивов. Следовательно, признание этих идеалов может не возникнуть в результате активации очень частых эпизодов.Тем не менее, они признаются наравне с типичными формами.
Представления кластеров на рисунке 1C предлагают способ подумать об эквивалентности распознавания с точки зрения активированных эпизодических кластеров и неравенстве памяти с точки зрения начальной силы кодирования. Границы кластера используются для визуализации репрезентативной устойчивости. Здесь у нас есть две одинаково устойчивые формы ([fl], [flu: t]) и одна менее надежная форма ([fl). Фигуры соответствуют жетонам с разными вариантами произношения. И количество фигур соответствует частоте.Эти эпизоды кодируются с разной силой (визуализируются как разные размеры токенов), и два кластера, которые количественно различаются, будут одинаково доступны в зависимости от силы кодирования. В случае [fl], аналогично типичному женскому голосу, этот кластер состоит из большого количества слабо закодированных словоформ (см. Также Kuhl, 1991 и Nygaard et al., 2000). В этом случае надежная активация является результатом активации густонаселенного кластера. В случае нечастого, неидеального [гриппа] или атипичного, несоциально значимого женского голоса кластер менее устойчив.Он больше всего контрастирует с типичными формами по количеству. Предполагается, что эти атипичные неидеализированные формы слабо закодированы, как и типичные формы. Это приводит к менее устойчивому кластеру, но их акустическое сходство с типичной формой приводит к появлению устойчивости в немедленных задачах обработки. Наше представление нечастой, но идеализированной формы (C, [flu: t]) иллюстрирует кластеры, которые возникают в результате того, что мы называем социально взвешенным кодированием. В этом случае мы предполагаем, что кластеры, соответствующие атипичным, социально идеализированным формам, столь же устойчивы, как кластеры, соответствующие типичным, неидеализированным формам, несмотря на то, что они состоят из меньшего количества эпизодов.В нашем подходе эти эпизоды кодируются сильнее, чем их аналоги, поскольку они переживаются в социально значимых контекстах. Более сильное кодирование приводит к повышенной специфичности и сильным дословным следам (см. Brainerd and Reyna, 2002; Brainerd et al., 2008 для обоснования аргументов). Сохраняя аналогию с типичными и нетипичными женскими голосами, мы могли бы ожидать, что менее типичные, но социально значимые женские голоса должны выиграть от того же типа преимущества кодирования. Такой взгляд на репрезентации основан на представлении Джонсона (2006) об акустическом резонансе, но добавляет уровень сложности кодирования.
Примеры, представленные на рисунке 1, включают, наряду с частым кластером по умолчанию, два кластера нетипичных форм: один, который схематично перекрывается с частым кластером по умолчанию, а другой — нет. Трудно исследовать различия в кодировании этих идеализированных и неидеализированных атипичных форм, когда неидеализированная форма, такая как [fl], перекрывается с частым кластером по умолчанию таким образом, что может ускорить ее активацию. Чтобы увидеть предлагаемые различия в кодировке, нам нужен пример с трехсторонним разделением в этих формах, в котором значение по умолчанию не перекрывается ни с одной нетипичной формой.Самнер и Катаока (2013) приводят именно такой случай, как описано ранее (§ 3). Они исследовали влияние вариаций говорящего на семантическое кодирование. Три говорящих — AE, BE и говорящий из Нью-Йорка — сформировали формы, которые типичны для слушателей AE (говорящий AE) или нетипичные (говорящие BE и NYC). Две нетипичные постановки отличаются от типичных постановок AE (следовательно, они не пересекаются с формой по умолчанию), но также существенно отличаются друг от друга воспринимаемой стандартностью. Неротический вариант, созданный говорящим BE, воспринимается как стандартный, тогда как тот же вариант, произведенный говорящим из Нью-Йорка, воспринимается как нестандартный.В двух экспериментах Самнер и Катаока (2013) обнаружили доказательства того, что более сильное кодирование слов, произносимых говорящим BE, приводит к эквивалентности распознавания между формами AE и BE. Важно отметить, что существует стоимость, найденная только для акцента Нью-Йорка, и это, на наш взгляд, отчасти потому, что эти нетипичные, неидеализированные формы Нью-Йорка не выигрывают от акустического перекрытия с формами AE — в отличие от нетипичных, неидеализированных примеров на рисунке 1. В некотором смысле это означает преимущество в процессе лексического доступа для строго закодированных форм и эквивалентность, которую мы видим в результате мощности и гибкости, проистекающих из плотного кластера по умолчанию (AE) и повышенного внимания, уделяемого разреженным но идеализированные постановки (BE).Это преимущество может быть раскрыто только за счет включения неперекрывающихся неидеализированных постановок без акцента (NYC). Это утверждение согласуется с другими работами, показывающими преимущество лексического доступа за счет повышенного внимания (например, Dupoux et al., 2003).
Достижение социально-взвешенного кодирования: подход с двумя маршрутами
Мы предположили, что развитие теории выиграет от рассмотрения роли социального значения в понимании разговорного языка. Мы предполагаем, что слова имеют социальную значимость.Здесь мы намечаем, как может быть выполнено социально взвешенное кодирование. Мы предлагаем извлекать из речи фонетически привязанную социальную информацию вместе с лингвистической информацией. И что эта социальная информация модулирует кодировку произносимых слов и словоформ. Общий подход и соответствующие прогнозы изложены ниже.
Социоакустическая и лингвистическая кодировка речи
Мы предлагаем, чтобы изученные акустические паттерны отображались одновременно на лингвистические представления и социальные представления (см. Крил и Брегман, 2011 г., и МакЛеннан и Люс, 2005 г., для соответствующих точек зрения).Как мы описываем, одним из следствий этого двухмаршрутного подхода является социально взвешенных кодировок произносимых слов. Подход зависит от резонансной активации, которая модулирует внимание к речевым событиям определенным говорящим или в определенном контексте. Сопоставляя речь одновременно с лингвистическими и социальными представлениями, мы можем получить кластерные представления, показанные на рисунке 1. Рисунок 2 иллюстрирует наш подход.
На рисунке 2 слушатели отображают входящий речевой сигнал в лексические представления либо напрямую, либо через меньшие языковые единицы представления (см. Чувствительность слушателя к фонетическим вариациям во время восприятия и распознавания).Этот маршрут представлен в правой части рисунка 2. Мы предлагаем дополнительный маршрут кодирования. Основываясь на находке Кагановича и др. (2006), что слушатели обрабатывают тон одновременно как лингвистический тон и признак пола говорящего, мы предполагаем, что это множественное отображение является общей характеристикой обработки речи. Левая часть рисунка 2 включает социальные характеристики более низкого уровня и социальные категории более высокого уровня. Это разделение менее актуально для текущей дискуссии, но является центральным для работы в других дисциплинах (см. Freeman and Ambady, 2011 для такого разделения в теории конструирования персон).
РИСУНОК 2. Схема предлагаемого двухмаршрутного подхода. В тандеме с кодированием речи в звуки и слова (справа) акустические паттерны речи кодируются в социальные представления (слева). Социально взвешенное кодирование является результатом повышенной активации социальных представлений, которые модулируют внимание к речевому сигналу. Это, в свою очередь, приводит к глубокому кодированию социально значимых акустических паттернов наряду с лингвистическими представлениями, но также независимо от них.
Мы рассматриваем вариацию речи как социальную подсказку, подобную визуальной подсказке, используемой в другой работе (см. Чувствительность слушателя к фонетическим вариациям во время восприятия и распознавания). Изученные и впоследствии сохраненные акустические паттерны связаны с социальными особенностями (например, расширенное пространство гласных, медленная скорость речи и другие совместно изменяющиеся паттерны могут соответствовать признакам «формальным» или «стандартным»; другой паттерн может соответствовать признаку «Женский», в то время как другие могут отображаться на «чужой», точно так же, как длительное запаздывание начала голоса (VOT) и другие сопутствующие модели сопоставляются с безголосыми начальными остановками слова в AE).Этот путь помогает отделить продуктивные социальные звуковые паттерны от лексических представлений (например, говорящие могут легко воспроизводить несловесные или бессмысленные строки в тщательно или небрежно сформулированном речевом стиле, но мы плохо понимаем, как и почему это происходит). Мы называем этот новый маршрут социоакустическим кодированием , он обозначен синим цветом в левой части рисунка 2. Слушатели одновременно извлекают языковую и социальную информацию из речи. Активация значимых социальных функций и / или категорий вызывает сильное кодирование (через повышенное внимание) в сети резонансной активации (см. Grossberg, 2013 г. и Kumaran and McClelland, 2012 г., где описана конкретная динамика резонансной сети).Предполагается, что атипичные идеализированные формы или атипичные социально значимые токены будут привлекать больше внимания при кодировании. Это приводит к особому статусу для вариантов и форм, которые идеализированы по сравнению с вариантами и формами по умолчанию. Единичный опыт с идеальным вариантом или формой имеет большее значение, чем единичный опыт с типичным неидеальным вариантом или формой. Этот социальный вес имеет значение для теорий лексического доступа в целом.
Социальное взвешивание также добавляет качественный компонент к кодированию произнесенных слов.Как слушатели, мы сталкиваемся с бесчисленными экземплярами одного слова. Иногда внимание обращается на конкретную форму слова. Например, мать может замедлить скорость и воспроизвести в слове город редкую букву [t], чтобы помочь ребенку в написании. В этом узком примере особое внимание уделяется форме слова (ситуация крайне редкая; любой преподаватель вводной фонетики может прокомментировать шок студентов, когда они узнают, сколько акустических коррелятов существует для буквы < t> на английском языке).Спустя годы орфография, металингвистические комментарии к стандартам и другие виды опыта (например, a [t] вместе с осторожным стилем речи могут использоваться в попытке устранить неоднозначность слов или в более формальных контекстах), к социально значимым моделям. Токены, соответствующие этой социальной значимости, кодируются более строго, чем те, которые слышны в стандартном социальном контексте или чем те, которые субъективно воспринимаются как дефолтные.
Результатом социального взвешивания является разреженный эпизодический кластер с высоким разрешением, который так же легко доступен во время лексического доступа, как и плотный кластер с низким разрешением (см. Рисунок 1, внизу).Таким образом, лексический доступ сопоставим для обоих кластеров, что позволяет прогнозировать эквивалентность распознавания простым способом. Чтобы объяснить эффекты неравенства памяти, важно понимать влияние силы кодирования во время презентации во время учебы. Отгаар и др. (2012) обнаружили, что внимание модулирует способы кодирования слов. В частности, они обнаружили, что слова запоминаются лучше в условиях полного внимания, чем в условиях разделенного внимания. Причина такой улучшенной памяти заключается в том, что полное внимание приводит к лучшему дословному кодированию по сравнению с кодированием сущности (см. Также Brainerd and Reyna, 1998).Другими словами, в состоянии полного внимания слушатели с большей вероятностью будут помнить именно то, что было сказано, но в состоянии разделенного внимания слушатели лучше запоминают общую идею того, что было сказано. Аналогичным образом, относительный вклад информации, основанной на сигналах, и информации, основанной на знаниях, может различаться для разных стилей речи во время обработки речи (Sumner, 2013). Таким образом, неравенство памяти частично является результатом более сильного начального кодирования этих нетипичных идеализированных форм при изучении.
Общие прогнозы
Поддержка этого второго социоакустического маршрута будет иметь различные формы. Во-первых, мы обычно ожидаем найти доказательства двойной обработки. Вполне возможно, что акцент на короткие слова и лексическая специфика в этой области замаскировал ряд потенциальных эффектов социоакустического кодирования. Мы ожидаем, что эффекты двойного маршрута в задачах немедленного распознавания будут наиболее устойчивыми в более длинных высказываниях, в конце экспериментов или в словах, которые замедляют лингвистическую обработку (например, слова с поздними точками устранения неоднозначности).Используя более длинные высказывания, Ван Беркум и др. (2008) обнаружили, что предсказания слов слушателями в задаче завершения предложения зависели от личности говорящего. Крил (2012) обнаружил, что предпочтения цветов, характерные для определенного говорящего, определяют поведение детей при обработке предложений. В соответствии с предсказанием о замедлении обработки, МакЛеннан и Люс (2005) обнаружили более сильные эффекты говорящего в сложных задачах, чем в простых. Во-вторых, мы предсказываем эквивалентность распознавания, если мы повторим ряд исследований, в которых изучались варианты произношения вне конгруэнтной фонетической рамки.Это позволило бы обойтись без парадокса репрезентации и предоставить больше доказательств того, что варианты и словоформы, которые производятся с совершенно разной скоростью, одинаково хорошо понимаются слушателями. Хотя, как и у Джонсона (2006), символические различия частот между атипичными неидеализированными формами и типичными неидеализованными формами могут проявляться в психоакустических задачах (см. Рис. 1А). В-третьих, слушатели должны иметь лучшую память для атипичных идеализированных форм, чем для форм по умолчанию, а также для субъективно воспринимаемых идеализированных форм .Другими словами, неравенство памяти для социально значимых контекстов по сравнению с контекстами по умолчанию должно быть результатом более долгосрочных исследований вариативности (где контексты включают разные стили речи одного голоса или разные голоса, которые по-разному воспринимаются в разных социальных масштабах населением наших слушателей). Последний прогноз, требующий более фундаментальной работы, заключается в том, что индивидуальные различия в социальном восприятии говорящих слушателями приводят к неравенству памяти, которое зависит от этих восприятий.Эти типы эффектов, вероятно, будут усилены в проектах, которые специально противопоставляют говорящих, делая конкретный голос социально контрастирующим с другим голосом. Другими словами, мы ожидаем, что слушатели по-разному воспринимают разные голоса в зависимости от социального восприятия на индивидуальном уровне. Здесь мы предлагаем несколько более подробных способов проверки некоторых из этих прогнозов.
Прогнозы социального веса произносимых слов
С точки зрения социального кодирования, приводящего к неравенству памяти, можно сделать ряд интересных прогнозов.Во-первых, нетипичные идеализированные словоформы следует запоминать лучше, чем типичные неидеализированные формы. Хотя это было показано, ряд критических сравнений еще не проводился. Например, расширяя результаты работы Самнера и Самуэля (2005) о том, что словоформы с окончанием [t] запоминаются лучше, чем формы с более частыми вариантами, мы могли бы предсказать, что эта асимметрия будет происходить в более общем виде во всех стилях речи: слова, произносимые в аккуратном стиле речи следует запоминать лучше, чем слова, произнесенные в повседневной речи.Распространяя это на акценты, мы могли бы исследовать ораторов, которые обычно считаются престижными (поскольку престиж, как утверждается, привлекает внимание; см. Chudek et al., 2012), по сравнению с теми, которые рассматриваются как нестандартные. Таким образом, в задачах неявной и явной памяти мы ожидаем более сильного кодирования для престижных акцентов, что приведет к лучшей памяти по сравнению с таковой для нестандартных динамиков. Подход, основанный на частотах, затруднит урегулирование этого разделения.
Мы также ожидаем увидеть более широкую роль фонетически обусловленных социальных вариаций в задачах, связанных с памятью.Например, Самнер и Самуэль (2009) предположили, что улучшение памяти для окончательных форм rhotic — или , которые не зависят от популяции слушателей, в какой-то мере связано с качественным опытом использования стандартных форм. В этом случае мы можем предсказать, что более низкая точность для неротических предметов связана не с тем, что неротический вариант по своей сути трудно запомнить, а потому, что неротический вариант создается нестандартным спикером Нью-Йорка, а токены впоследствии кодируется слабо.Самая сильная проверка этого утверждения состоит в том, что тот же неротический вариант, встроенный в престижный голос (например, престижный акцент BE, который также не является ротическим), будет демонстрировать улучшение памяти. Это точный образец, обнаруженный Самнером и Катаока (2013). В общем, комбинация варианта произношения и фонетического фрейма приводит к социальному весу. Распространение этого направления исследований на другие экспериментальные парадигмы, чувствительные к различиям в кодировании (например, парадигма ложной памяти, см. Обзор в Gallo, 2006), должно оказаться полезным для понимания эффектов социального взвешивания.
Предсказания подхода социоакустического кодирования
Многие из предсказаний, обсуждаемых в этом разделе, естественным образом вытекают из моделей семантических ассоциаций, в которых ассоциация возрастает по мере одновременной активности элементов или концептов (см. Raaijmakers and Shiffrin, 1980; Landauer and Dumais, 1997; Griffiths et al., 2007). Мы фокусируемся здесь на прогнозах, которые (1) проверят гипотезу о том, что социальное значение, выведенное из фонетических вариаций в речи, происходит независимо от лексики, и (2) демонстрируют интерактивные эффекты между лингвистической и социальной информацией.Чтобы лучше всего проиллюстрировать прогнозируемую диссоциацию между лингвистическим и социоакустическим кодированием, мы переключаем наше внимание на эмоции и пол, хотя аналогичные прогнозы распространяются на осторожные стили речи в отличие от случайных. Одно из наших прогнозов состоит в том, что слова, произнесенные с ненейтральной интонацией, должны активировать слова, связанные по значению с лексическим элементом и , с соответствующими эмоциями. Часть этого прогноза получила некоторую поддержку. Nygaard et al. (2009) исследовали влияние звуковой символики через тон голоса.Они записали шесть не-слов (например, blicket ) с определенным тоном голоса, чтобы передать счастливые / грустные, низкие / высокие и другие контрастные значения. В своем первом эксперименте участники услышали: «Сможете ли вы получить (счастливого голоса) бликета?» и их попросили выбрать либо счастливую картинку, либо грустную. Слушатели чаще выбирали счастливую картинку со счастливым голосом blicket и грустную картинку чаще с грустным голосом blicket . Хотя это исследование показывает, что слушатели используют эмоциональную просодию при изучении слов, задача и использование не слов ограничивают наше понимание одновременной обработки языковой и социальной информации.Их можно разделить, исследуя распознавание неэмоциональных слов (например, ананас ), произносимых нейтральным или эмоциональным голосом. Мы прогнозируем, например, что слово ананас , произнесенное сердитым голосом, должно облегчить распознавание слов плод и расстроен в парадигме прайминга. При однонаправленном лингвистическом кодировании такое слово, как ананас , произносимое сердитым голосом, должно замедлять лексический доступ (поскольку нетипичные высказывания обычно замедляются).Замедленный доступ должен препятствовать семантическому праймингу (см. Van Orden and Goldinger, 1994), и, аналогично, не должно быть прайминга для эмоционально связанных слов. Это одно явное расхождение между текущим предложением и частотно-зависимыми подходами к лексическому доступу.
В более общем плане мы прогнозируем, что слова, в которых лингвистические и социоакустические сигналы конфликтуют, должны привести к замедлению распознавания (Quené et al., 2012). Например, слово улыбается , произнесенное сердитым голосом, должно распознаваться медленнее, чем слово улыбается , произнесенное счастливым голосом (ок.f., Nygaard and Queen, 2008). Хотя и нетипичны с точки зрения глобального опыта слушателя со словом улыбается и, следовательно, должны быть медленнее по сравнению с нейтральным управлением в текущей теории, последний выигрывает от двойного кодирования. Мы также должны предсказать, что слово улыбается , произнесенное счастливым голосом, распознается быстрее, чем слово улыбается , произнесенное нейтральным голосом (см. Schirmer et al., 2005a, b).
В дополнение к различиям внутри говорящих, таким как эмоции или стиль речи, различия между говорящими могут также обеспечивать поддержку подхода с двумя маршрутами.Например, прогнозируется, что женские голоса активируют слова, связанные с социальной категорией женщин / женщин . В автономных задачах, таких как задача свободной ассоциации, мы можем ожидать, что высшие семантические ассоциаты различаются в зависимости от пола говорящего. Мы не предсказываем, что каждое слово будет связано с определенным полом, и мы не предсказываем различия для каждого слова. Скорее, мы предполагаем, что, учитывая два разных голоса, состав главных партнеров по ряду слов (типично для задач, связанных со свободными ассоциациями) будет зависеть от пола.Эти эффекты также следует наблюдать в онлайн-исследованиях. Поскольку семантическое праймирование сильно зависит от силы ассоциации между первичной и главной ассоциированной целью, мы прогнозируем, что главные ассоциированные цели, полученные из женского голоса, должны распознаваться быстрее, когда прайм воспроизводится в женском голосе, чем когда прайм создается в мужском голос.
В соответствии с обсуждаемым эффектом ускоренной конгруэнтности, мы ожидаем, что слова, связанные с определенным полом, будут распознаваться быстрее, когда это слово произносится ассоциированным полом, чем несвязанным полом.Важно отметить, что этот эффект должен быть независимым от подсчетов частоты гендерного использования. Эпизодические лексические модели доступа сильно зависят от исходной частоты конкретного слова, произносимого конкретным говорящим или группой говорящих (см. Walker and Hay, 2011). Этот подход предсказывает, что слова, обычно произносимые женщинами, например, распознаются быстрее, когда они произносятся женщинами, чем когда произносятся мужчинами. Наш подход предполагает, что, кроме того, гендерная концептуализация будет сильным предиктором распознавания слов, независимо от того, действительно ли конкретный пол произносит связанное с гендером слово чаще, чем другой пол.Мы также прогнозируем, что этот эффект приведет к раннему искажению обработки речи. Например, используя парадигму визуального мира (обзор см. Huettig et al., 2011), слова, которые социально связаны с голосом (аналогично эффектам семантической конкуренции, показанным Huettig and Altmann, 2005), должны конкурировать с целями, произнесенными в этом голос, но не должен конкурировать с целями, произносимыми разными голосами. Это примеры типов предсказаний, которые иллюстрируют способы, которыми речь может кодироваться одновременно для социальных и лингвистических представлений.
Более широкое применение
Последствия нашего подхода распространяются на языковую обработку в более общем плане и могут побудить нас поставить под сомнение фонетически обусловленные социальные эффекты в других областях. Особенно актуальным для нашего обсуждения является утверждение, что некоторые ораторы считаются ненадежными, потому что их трудно понять (Lev-Ari and Keysar, 2010). Изучая влияние понимания на воспринимаемую надежность, Лев-Ари и Кейсар (2010) собрали оценки понимания и оценки надежности от слушателей, носящих английский язык, представленных речью носителей английского языка и тех, для кого он не является родным.В ходе двух экспериментов они обнаружили, что слушатели достоверно оценивали людей, для которых английский не является родным, как менее надежных, чем носителей английского языка. Кроме того, людей, для которых английский язык не является родным, оценили как более трудных для понимания, чем носителей английского языка. Они утверждали, что ораторы, которых трудно понять, считаются ненадежными. Их подход: [речь] → [лингвистическое понимание] → [социальное суждение]. Наша точка зрения предлагает альтернативный вариант учета этих данных. На наш взгляд, понимание — это совокупность социальной и языковой активации.И фонетическая вариация, указывающая на ненадежность (например, иностранный акцент для ушей многих слушателей AE), может изменить способ восприятия стимулов (см. Также Dixon et al., 2002; Gluszek and Dovidio, 2010). Это извечный вопрос о курице и яйце, за исключением того, что наши экспериментальные прогнозы расходятся, и проблему можно решить. Все не носители языка в исследовании Лев-Ари и Кейсара (2010) были нестандартными, непрестижными ораторами, а оценки понимания основывались на воспринимаемых мерах понимания, предоставленных слушателями.При сильном подходе к социальному суждению после понимания можно ожидать, что любой акцент, который труднее понять, чем родной акцент, приведет к более низким рейтингам надежности. При сильном подходе социоакустического кодирования можно было бы ожидать, что престижный акцент (например, престижный акцент BE) приведет к более высоким рейтингам надежности, чем родной AE-акцент, несмотря на наличие другой системы гласных (см. Roach, 2004). Или, что два носителя языка AE, которые по-разному рассматриваются по социальным шкалам, но одинаково просты для понимания, должны давать очень разные оценки надежности.В обоих случаях было бы полезно собрать как субъективные, так и объективные оценки понимания, поскольку нетрудно представить ситуацию, в которой объективное понимание одинаково, но субъективное понимание отличается. Мы используем этот пример только для того, чтобы выделить способы, с помощью которых мы могли бы исследовать социальные эффекты с фонетическим сигналом в распознавании устных слов и понимании языка в более широком смысле.
Заключительные замечания
В этой статье мы осветили растущий объем исследований данными, которые нелегко объяснить с учетом современных теоретических подходов к восприятию и распознаванию произносимых слов.Мы утверждали, что частотно-ориентированные подходы остановят попытки объяснить эквивалентность распознавания и неравенство памяти; как и более абстракционистские подходы. Чтобы полностью учесть данные, мы утверждали, что слушатели используют вариативность речи во всем ее потенциале — отображая речь на лингвистические и социальные представления в тандеме. Тем самым мы вносим качественный компонент в определение впечатлений слушателя. Наш подход вызывает ряд вопросов, выходящих за рамки данной статьи.Но мы представили концептуально осуществимый подход к влиянию фонетически заданного социального значения на кластерные представления и восприятие речи, что, по нашему мнению, представляет собой существенный отход от предыдущих концептуальных представлений о роли вариации. Мы считаем, что этот подход позволит в будущем попытаться решить эти вопросы. Изучение обширного влияния фонетических вариаций на восприятие речи и распознавание устных слов должно приблизить нас к пониманию того, как слушатели понимают произносимые слова, произнесенные разнообразным набором говорящих.
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Благодарности
Мы признательны Стэнфордскому фонетическому сообществу за полезные обсуждения. Мы благодарны Аннет Д’Онофрио и Рою Гафтер за ценные комментарии и отзывы. Этот материал частично основан на работе, поддержанной Национальным научным фондом под номерами грантов 0720054 и 1226963, сделанной Меган Самнер.Любые мнения, выводы, выводы или рекомендации, выраженные в этом материале, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Национального научного фонда.
Сноски
- Мы используем термин идеализированный здесь и повсюду для обозначения варианта или говорящего, который субъективно рассматривается как более стандартный по сравнению с другими вариантами или говорящими для данного примера (см. Campbell-Kibler, 2006 и Sclafani, 2009 для обсуждения соответствующих вопросов и ссылки в нем).запоминаются лучше в долгосрочных исследованиях, чем другие формы (мы называем это неравенство памяти ).
- Мы специально избегаем термина «удаленный» как потенциально вводящее в заблуждение категоричное описание градиентного процесса. См. Temple (2009) для дальнейшего обсуждения.
- Мы выделяем здесь случаи, когда устанавливается эквивалентность различных вариантов. Мы не утверждаем, что все варианты (во всех контекстах, для всех говорящих и акцентов) должны приводить к эквивалентности.См. Sumner and Kataoka, 2013, где обсуждается противоречие между такими факторами, как частота воздействия и языковая идеология.
- Хотя сами социальные категории можно понять в количественных показателях, под качественными в данном контексте понимается только влияние на социальное значение процессов и представлений, участвующих в понимании разговорного языка.
Список литературы
Бабель, М. (2009). Фонетическая и социальная избирательность в речевой адаптации. к.э.н. диссертация, Калифорнийский университет, Беркли, Беркли
Беддор, П. С., Макгоуэн, К. Б., Боланд, Дж. Э., Кутзи, А. В., и Брашер, А. (2013). Перцептивный ход коартикуляции. J. Acoust. Soc. Am. 133, 2350–2366. DOI: 10.1121 / 1.4794366
Pubmed Реферат | Pubmed Полный текст | CrossRef Полный текст
Бест, К. Т., Мак-Робертс, Г. В., и Гуделл, Э. (2001). Различение контрастов согласных звуков, не являющихся родными, различающихся по степени перцептивной ассимиляции с фонологической системой слушателя. J. Acoust. Soc. Am. 109, 775–794. DOI: 10.1121 / 1.1332378
Pubmed Реферат | Pubmed Полный текст | CrossRef Полный текст
Брэдлоу, А. Р., Найгаард, Л. К., и Писони, Д. Б. (1999). Влияние изменения говорящего, скорости и амплитуды на память распознавания произнесенных слов. Восприятие. Психофизика. 61, 206–219. DOI: 10.3758 / BF03206883
Pubmed Реферат | Pubmed Полный текст | CrossRef Полный текст
Брейнерд, К. Дж., И Рейна, В. Ф. (1998).Когда то, чего никогда не переживали, легче «вспомнить», чем то, что было. Psychol. Sci. 9, 484–489. DOI: 10.1111 / 1467-9280.00089
CrossRef Полный текст
Брейнерд, К. Дж., Стейн, Л. М., Сильвейра, Р. А., Рохенхель, Г., и Рейна, В. Ф. (2008). Как негативные эмоции вызывают ложные воспоминания? Psychol. Sci. 19, 919–925. DOI: 10.1111 / j.1467-9280.2008.02177.x
Pubmed Реферат | Pubmed Полный текст | CrossRef Полный текст
Кэмпбелл-Киблер, К.(2006). Восприятие слушателями социолингвистических переменных : Случай (ING) . Кандидат наук. диссертация, Стэнфордский университет, Стэнфорд.
Чудек, М., Хеллер, С., Берч, С., и Хенрих, Дж. (2012). Культурное обучение, ориентированное на престиж: особое внимание стороннего наблюдателя к потенциальным моделям влияет на обучение детей. Evol. Гм. Behav. 33, 46–56. DOI: 10.1016 / j.evolhumbehav.2011.05.005
CrossRef Полный текст
Черч, Б. А., и Шактер, Д.Л. (1994). Перцепционная специфика слухового прайминга: имплицитная память на интонацию и основную частоту голоса. J. Exp. Psychol. Учиться. Mem. Cogn. 20, 521–533. DOI: 10.1037 / 0278-7393.20.3.521
Pubmed Реферат | Pubmed Полный текст | CrossRef Полный текст
Clayards, M., Tanenhaus, M.K., Aslin, R.N., и Jacobs, R.A. (2008). Восприятие речи отражает оптимальное использование вероятностных речевых сигналов. Познание 108, 804–809. DOI: 10.1016 / j.cognition.2008.04.004
Pubmed Реферат | Pubmed Полный текст | CrossRef Полный текст
Коннин, К. М. (2004). Дело не в том, что вы слышите, а в том, как часто вы это слышите: о игнорируемой роли частоты фонологических вариантов в слуховом распознавании слов. Психон. Бык. Ред. 11, 1084–1089. DOI: 10.3758 / BF03196741
этапов развития речи и языка
Как развиваются речь и язык?
Первые 3 года жизни, когда мозг развивается и созревает, являются наиболее интенсивным периодом для приобретения речевых и языковых навыков.Эти навыки лучше всего развиваются в мире, который богат звуками, видами и постоянным знакомством с речью и языком других.
У младенцев и детей младшего возраста существуют критические периоды для речи и языкового развития, когда мозг лучше всего способен воспринимать речь. Если позволить этим критическим периодам пройти без контакта с языком, выучить будет труднее.
Каковы основные этапы развития речи и языка?
Первые признаки общения возникают, когда младенец узнает, что крик принесет еду, утешение и дружеские отношения.Новорожденные также начинают распознавать важные звуки в окружающей их среде, например, голос матери или опекуна. По мере роста младенцы начинают понимать звуки речи, из которых состоят слова их языка. К 6 месяцам большинство младенцев узнают основные звуки родного языка.
Дети различаются по развитию речи и языковых навыков. Однако они следуют естественному прогрессу или расписанию для овладения языковыми навыками. Ниже приведен контрольный перечень этапов нормального развития речи и языковых навыков у детей от рождения до 5 лет.Эти вехи помогают врачам и другим медицинским работникам определить, находится ли ребенок на правильном пути или ему может потребоваться дополнительная помощь. Иногда задержка может быть вызвана потерей слуха, а в других случаях — речевым или языковым расстройством.
В чем разница между расстройством речи и языковым расстройством?
Дети, которые не понимают, что говорят другие (восприимчивый язык) или затрудняются делиться своими мыслями (выразительный язык), могут иметь языковое расстройство.Специфические языковые нарушения (SLI) — это языковое расстройство, которое задерживает овладение языковыми навыками. Некоторые дети с SLI могут не говорить до третьего или четвертого года жизни.
Дети, у которых возникают проблемы с правильным воспроизведением речевых звуков или которые колеблются или заикаются при разговоре, могут иметь нарушение речи. Апраксия речи — это расстройство речи, при котором сложно соединить звуки и слоги в правильном порядке для образования слов.
Что мне делать, если у моего ребенка задерживается речь или язык?
Если у вас есть какие-либо проблемы, обратитесь к врачу вашего ребенка.Ваш врач может направить вас к речевому патологу, который является профессионалом в области здравоохранения, обученным оценивать и лечить людей с речевыми или языковыми расстройствами. Патологоанатом расскажет вам об общении и общем развитии вашего ребенка. Он или она также будет использовать специальные устные тесты для оценки вашего ребенка. Проверка слуха часто включается в оценку, поскольку проблема со слухом может повлиять на речь и языковое развитие. В зависимости от результата обследования патолог может предложить занятия, которые вы можете выполнять дома, чтобы стимулировать развитие ребенка.Они также могут порекомендовать групповую или индивидуальную терапию или предложить дальнейшее обследование сурдологом (профессионалом здравоохранения, обученным выявлять и измерять потерю слуха) или психологом по развитию (специалистом в области здравоохранения со специальными знаниями в области психологического развития младенцев и детей). .
Какие исследования проводятся по проблемам развития речи и языка?
Национальный институт глухоты и других коммуникативных расстройств (NIDCD) спонсирует широкий спектр исследований, направленных на лучшее понимание развития речевых и языковых расстройств, улучшение диагностических возможностей и точную настройку более эффективных методов лечения.Постоянной областью исследований является поиск лучших способов диагностики и дифференциации различных типов задержки речи. Большое исследование с участием примерно 4000 детей собирает данные по мере того, как дети растут, чтобы установить надежные признаки и симптомы конкретных речевых расстройств, которые затем можно использовать для разработки точных диагностических тестов. Дополнительные генетические исследования ищут совпадения между различными генетическими вариациями и конкретными дефектами речи.
Исследователи, спонсируемые NIDCD, обнаружили один генетический вариант, в частности, связанный с определенным языковым нарушением (SLI), расстройством, которое задерживает использование детьми слов и замедляет их овладение языковыми навыками в течение школьных лет.Это первое открытие, которое связывает наличие определенной генетической мутации с любым видом унаследованных языковых нарушений. Дальнейшие исследования изучают роль, которую этот генетический вариант также может играть при дислексии, аутизме и расстройствах речи.
Долгосрочное исследование того, как глухота влияет на мозг, изучает, как мозг «перестраивается», чтобы приспособиться к глухоте. На данный момент исследование показало, что глухие взрослые реагируют быстрее и точнее, чем слышащие взрослые, когда они наблюдают за движущимися объектами.Это продолжающееся исследование продолжает изучение концепции «пластичности мозга» — способов, которыми на мозг влияют состояния здоровья или жизненный опыт, — и то, как ее можно использовать для разработки стратегий обучения, которые способствуют развитию здорового языка и речи в раннем детстве.
На недавнем семинаре, организованном NIDCD, была собрана группа экспертов для изучения вопросов, связанных с подгруппой детей с расстройствами аутистического спектра, у которых к 5 годам отсутствует функциональная вербальная речь.Поскольку эти дети настолько отличаются друг от друга, что у них нет набора определяющих характеристик или моделей когнитивных сильных и слабых сторон, разработка стандартных оценочных тестов или эффективных методов лечения была затруднена. Семинар включал в себя серию презентаций, чтобы познакомить участников с проблемами, с которыми сталкиваются эти дети, и помочь им определить ряд пробелов и возможностей, которые можно было бы устранить в будущих исследованиях.
Что такое голос, речь и язык?
Голос, речь и язык — это инструменты, которые мы используем для общения друг с другом.
Голос — это звук, который мы издаем, когда воздух из наших легких проталкивается между голосовыми складками в нашей гортани, заставляя их вибрировать.
Речь говорит, что является одним из способов выражения языка. Он включает в себя точно скоординированные действия мышц языка, губ, челюсти и речевого тракта для воспроизведения узнаваемых звуков, из которых состоит язык.
Язык — это набор общих правил, которые позволяют людям выражать свои идеи осмысленным образом.Язык может быть выражен устно или письменно, жестами или другими жестами, такими как моргание глаз или движения рта.
Контрольный список для проверки слуха и коммуникативного развития вашего ребенка
От рождения до 3 месяцев
от 4 до 6 месяцев
от 7 месяцев до 1 года
1-2 года
От 2 до 3 лет
3-4 года
от 4 до 5 лет
Этот контрольный список основан на документе Как ваш ребенок слышит и разговаривает, ?, Любезно предоставленном Американской ассоциацией речи, языка и слуха.
Где я могу найти дополнительную информацию о вехах речевого и языкового развития?
NIDCD ведет каталог организаций, которые предоставляют информацию о нормальных и нарушенных процессах слуха, баланса, вкуса, обоняния, голоса, речи и языка.
Используйте следующие ключевые слова, чтобы помочь вам найти организации, которые могут ответить на вопросы и предоставить информацию о развитии речи и языка:
Информационный центр NIDCD
1 Communication Avenue
Bethesda, MD 20892-3456
Бесплатная голосовая связь: (800) 241-1044
Бесплатная линия TTY: (800) 241-1055
Электронная почта: nidcdinfo @ nidcd.nih.gov
Публикация NIH № 13-4781
Обновлено в сентябре 2010 г.
Социальная психология: определение, история, методы, применение
Что такое социальная психология?
Социальная психология — это научное исследование того, как на мысли, чувства и поведение людей влияет фактическое, воображаемое или подразумеваемое присутствие других (Allport 1998). По этому определению научный относится к эмпирическому методу исследования. Термины мысли, чувства и поведение включают в себя все психологические переменные, которые можно измерить у человека.Утверждение о том, что другие люди могут быть воображаемыми или подразумеваемыми, предполагает, что мы склонны к социальному влиянию, даже когда другие люди отсутствуют, например, когда мы смотрим телевизор или следуем внутренним культурным нормам.
Социальная психология — это эмпирическая наука, которая пытается ответить на множество вопросов о человеческом поведении, проверяя гипотезы как в лаборатории, так и в полевых условиях. Такой подход к области фокусируется на отдельном человеке и пытается объяснить, как мысли, чувства и поведение людей находятся под влиянием других людей.
Относительно недавняя область, социальная психология, тем не менее, оказала значительное влияние не только на академические миры психологии, социологии и социальных наук в целом, но также повлияла на общественное понимание и ожидания человеческого социального поведения. Изучая, как люди ведут себя в условиях экстремального социального влияния или его отсутствия, были достигнуты большие успехи в понимании человеческой природы. Люди — существа социальные, поэтому социальное взаимодействие жизненно важно для здоровья каждого человека.Благодаря изучению факторов, которые влияют на социальную жизнь и того, как социальные взаимодействия влияют на индивидуальное психологическое развитие и психическое здоровье, появляется более глубокое понимание того, как человечество в целом может жить вместе в гармонии.
Подробнее о теориях социальной психологии.
Связи между социальной психологией и социологией
Социальная психология — это раздел психологии, изучающий когнитивные, аффективные и поведенческие процессы индивидов под влиянием их членства в группах и взаимодействий, а также других факторов, влияющих на социальную жизнь, таких как социальный статус, роль и социальный класс.Социальная психология изучает влияние социальных контактов на развитие отношений, стереотипов, дискриминации, групповой динамики, конформности, социального познания и влияния, самооценки, убеждения, межличностного восприятия и влечения, когнитивного диссонанса и человеческих отношений.
Значительное количество социальных психологов являются социологами. В их работе больше внимания уделяется поведению группы, и, следовательно, исследуются такие явления, как взаимодействия и социальные обмены на микроуровне, а также групповая динамика и психология толпы на макроуровне.Социологов интересует человек, но в первую очередь в контексте социальных структур и процессов, таких как социальные роли, раса и класс, а также социализация. Они склонны использовать как качественный, так и количественный дизайн исследования. Социологов в этой области интересуют различные демографические, социальные и культурные явления. Некоторые из их основных областей исследований — социальное неравенство, групповая динамика, социальные изменения, социализация, социальная идентичность и символический интеракционизм.
Социальная психология связывает интерес психологии (с ее акцентом на личности) с социологией (с ее акцентом на социальных структурах).Большинство социальных психологов проходят подготовку по дисциплинам психологии. Психологически ориентированные исследователи уделяют большое внимание непосредственной социальной ситуации и взаимодействию между человеком и переменными ситуации. Их исследования имеют тенденцию быть в высшей степени эмпирическими и часто сосредоточены на лабораторных экспериментах. Психологов, изучающих социальную психологию, интересуют такие темы, как отношения, социальное познание, когнитивный диссонанс, социальное влияние и межличностное поведение. Два влиятельных журнала для публикации исследований в этой области — это The Journal of Personality and Social Psychology и The Journal of Experimental Social Psychology.Узнайте больше о социологической социальной психологии.
История социальной психологии
Дисциплина социальной психологии зародилась в Соединенных Штатах на заре двадцатого века. Первым опубликованным исследованием в этой области был эксперимент Нормана Триплетта (1898 г.) по феномену социальной помощи. В 1930-е годы многие гештальт-психологи, особенно Курт Левин, бежали в Соединенные Штаты из нацистской Германии. Они сыграли важную роль в развитии этой области как чего-то отдельного от поведенческих и психоаналитических школ, которые доминировали в то время, и социальная психология всегда сохраняла наследие их интересов в восприятии и познании.Отношения и различные явления в малых группах были наиболее часто изучаемыми темами в ту эпоху.
Во время Второй мировой войны социальные психологи изучали убеждение и пропаганду для американских военных. После войны исследователи заинтересовались множеством социальных проблем, включая гендерные вопросы и расовые предрассудки. В 1960-х годах рос интерес к множеству новых тем, таких как когнитивный диссонанс, вмешательство сторонних наблюдателей и агрессия. Однако к 1970-м годам социальная психология в Америке достигла кризиса.Были горячие дебаты по поводу этики лабораторных экспериментов, действительно ли отношения предсказывают поведение, и насколько наука может сделать
Детская психология | дисциплина | Britannica
Детская психология , также называемая детским развитием , изучение психологических процессов детей и, в частности, того, как эти процессы отличаются от процессов взрослых, как они развиваются от рождения до конца подросткового возраста и как и почему они отличаются от одного ребенка к другому.Эту тему иногда относят к младенчеству, взрослой жизни и старению в категорию психологии развития.
Как научная дисциплина, имеющая прочную эмпирическую основу, изучение детей возникло сравнительно недавно. Он был начат в 1840 году, когда Чарльз Дарвин начал вести учет роста и развития одного из своих детей, собирая данные так, как если бы он изучал неизвестный вид. В аналогичном, более подробном исследовании, опубликованном немецким психофизиологом Вильямом Прейером, были предложены методы для ряда других.В 1891 году американский педагог-психолог Г. Стэнли Холл основал Педагогическую семинарию , периодическое издание, посвященное детской психологии и педагогике. В начале 20 века разработка тестов интеллекта и создание клиник по ориентации детей еще больше определили область детской психологии.
Г. Стэнли Холл.
Предоставлено Университетом Кларка, Вустер, МассачусетсРяд известных психологов 20-го века, в том числе Зигмунд Фрейд, Мелани Кляйн и дочь Фрейда, Анна Фрейд, занимались развитием ребенка в основном с психоаналитической точки зрения.Возможно, наибольшее непосредственное влияние на современную детскую психологию оказал Жан Пиаже из Швейцарии. Посредством непосредственного наблюдения и взаимодействия Пиаже разработал теорию приобретения понимания у детей. Он описал различные этапы обучения в детстве и охарактеризовал восприятие детьми себя и мира на каждом этапе обучения.
Данные по детской психологии собраны из различных источников. Наблюдения родственников, учителей и других взрослых, а также непосредственное наблюдение и беседы психолога с ребенком (или детьми) дают много материала.В некоторых случаях используется одностороннее окно или зеркало, чтобы дети могли свободно взаимодействовать со своим окружением или другими людьми, не зная, что за ними наблюдают. Тесты личности, тесты интеллекта и экспериментальные методы также оказались полезными для понимания развития ребенка.
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодняНесмотря на попытки объединить различные теории развития ребенка, эта область остается динамичной, изменяясь по мере развития областей физиологии и психологии.

 Диалогическая — общение между разными людьми. Считается более простой.
Диалогическая — общение между разными людьми. Считается более простой.



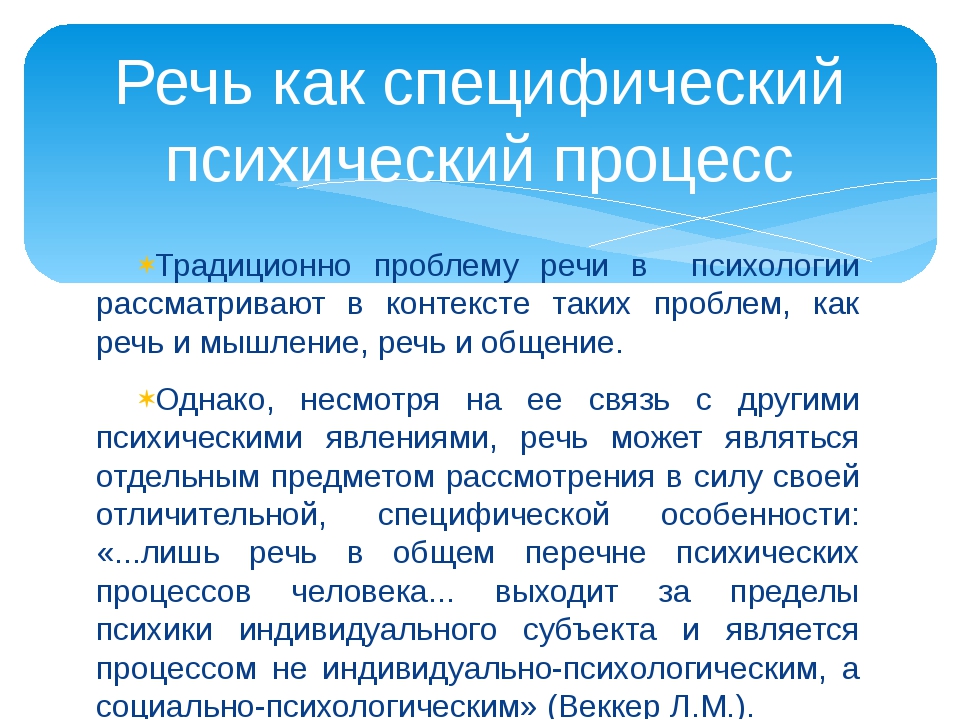
 Виды речи. Общая психология
Виды речи. Общая психология
 Психоаналитик Карл Юнг обнаружил, что невроз основан на напряжении между нашей психикой и отношениями.
Психоаналитик Карл Юнг обнаружил, что невроз основан на напряжении между нашей психикой и отношениями.