Читать онлайн «Сивцев Вражек», Михаил Осоргин – ЛитРес
Часть первая
Орнитолог
В беспредельности Вселенной, в Солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернильницы, календарь и стопку бумаги. Ученый же видел только ту часть страницы, где изображена была в красках голова кукушки.
Не ученые мысли бродили в его голове, а простая житейская о том, сколько лет ему осталось жить. Унесла его эта мысль вглубь леса, где кукует кукушка, и сколько прокукует – столько и жить осталось. Таково народное поверье, и не глупее оно всякого другого предсказания. Ошибается кукушка, как ошибаются и врачи. И ни один врач не может предсказать, когда человека задавит трамвай.
Широколицый, руссейший, седобородый профессор умирать не хотел, а смерти не боялся только потому, что в юности и в старости был мужчиной и умницей. Он был известен в ученом мире и свою науку любил по-особенному; была красота в его науке: окраска перьев, пенье, природа, рожденье весны, прощание с летом. Поэзия была в его науке. Каждую птичку он знал и за это знание свое – любил. И умирать профессор орнитологии не хотел; еще и еще хотел жить. Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка?
Он был известен в ученом мире и свою науку любил по-особенному; была красота в его науке: окраска перьев, пенье, природа, рожденье весны, прощание с летом. Поэзия была в его науке. Каждую птичку он знал и за это знание свое – любил. И умирать профессор орнитологии не хотел; еще и еще хотел жить. Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка?
Кукушка прокуковала три раза. Профессор улыбнулся; суеверным он не был и к своим часам привык. Книгу закрыл, заложив бумажкой. Зевнул – хороший признак. На старости лет страдал он бессонницей. Встал, поясницу помял пальцами, опять зевнул – и, потушив лампу, вышел в спальню.
Через час, когда полная тишина окутала дом и кукушка прокуковала четыре, – из-под книжного шкапа выползла мышь и стала прислушиваться. Кажется – все благополучно, все спит, кошачьего глаза не видно. Мышь пошевелила хвостиком, передернула ноздрями и отправилась в путь.
Путь лежал через спальню профессора, под дверь другой спальни – и столовую. Такова малая вылазка, за крошками. Более длинное путешествие – в кухню; оно очень опасно (кошка). И лучше начать его через другой ход – из-за сундука в коридоре. Там тоже дырка в полу.
Такова малая вылазка, за крошками. Более длинное путешествие – в кухню; оно очень опасно (кошка). И лучше начать его через другой ход – из-за сундука в коридоре. Там тоже дырка в полу.
Видела мышь только ближний кусочек пола и очертания дальнейших предметов ровно настолько, чтобы не сбиться с пути. Если бы видеть так, как видит кошка!
Добежав до двери, мышка пропустила в щель жир и убедилась кончиком хвоста, что пролезла. Опять остановка – и легкая тревога. Орнитолог спал по-стариковски, беспокойно. Во сне говорил: «Что? Почему? Ах, это все равно!» Но вот дышит ровно, спит.
Всю жизнь так и убил на свою науку. Птицу узнавал издали по перышку, по силуэту, по тихому щебету, – а людей узнавал ли с той же легкостью? По щебету облюбовал себе подругу жизни, вылупились птенчики – три птенца. Оперились, выросли, отлетели. А теперь тут, за стеной, внучка – осталась без родителей.
Старуха жива – былая щебетунья, прожившая с птичьим ученым все сорок лет. Птицу так не выберешь, как выбрал человека! Но, конечно, было в жизни всего; особенно в молодые годы…
Опять старик пошевелился во сне, и юркнул серый комочек под дверь в соседнюю спальню.
Было здесь душно. Кровать стояла огромная, вся в подушках, и угол одеяла опустился. Спала на кровати, будто детка, калачиком, седая маленькая старушка, жена профессора. На столике стакан воды, порошки и конфеты в бумажке. И кресло стояло покойное, просиженное. И пахло лавандой и прошлым.
Здесь было так нестрашно, что мышка неторопливо прошла по ковру, остановилась, присела, задумалась.
Здесь было покойно, как нигде, и как нигде – безопасно. Дышала старушка совсем неслышно, и снилось ей простое и неинтересное. Спала со сжатыми губами, а зубы лежали в стакане с водой.
Но зато дальше на пути была комната, которую можно и лучше пробежать быстрее и без остановки. Страшная комната, гулкая и нежилая. В запахе спален есть умиротворяющее, житейское; но страшен зал с большими окнами и далекими силуэтами.
В круге зрения мышки блеснуло – и она отпрянула. На тонкой мордочке заработали ноздри и усы. Не так страшно: только стеклянные подножки рояля. Но, Господи! В таком огромном мире все страшно мышке серой и беззащитной!
Маленькая мышка и огромный рояль, способный грянуть всеми струнами и оглушить. Рояль этот был господином дома.
Рояль этот был господином дома.
Профессор играл: «Вот, хотите, я изображу вам соловья; сначала так: фью-и, фью-и; тут низко: фуррр… и трель… а вот как щелкает – никак не изобразишь!» Его жена, старушка Аглая Дмитриевна, играла очень хорошо, но упросить ее трудно. «Ну, руки у меня стары, еле двигаются». Танюша – будущая артистка; и сила у нее есть, и влечение к музыке, и способности. Танюша учится в консерватории. На маленьких концертах выступает без страха. Но живет рояль полной жизнью только тогда, когда приходит вечером профессор Танюши Эдуард Львович. Тогда действительно… И бывает это почти каждое воскресенье. Долго не спят мыши в подполе в те вечера. И ночью не выходят на разведки.
Эдуард Львович – пожилой человек, некрасивый, неинтересный собеседник, но пианист удивительный. И композитор. Любит сладкие сухарики к чаю. Никогда в жизни не пил водки. Странный немного человек.
А мышка тем временем уже возвращается из столовой. Крошки нашлись, и немало. В коридор мышка заглянула было, но там стукнуло – и пришлось бежать. В столовой все обшарила. Опять теперь через залу и спальни – за книжный шкап, в дырочку и домой. Светает. В темноте страшно, при свете еще страшнее. Всегда страшно.
В столовой все обшарила. Опять теперь через залу и спальни – за книжный шкап, в дырочку и домой. Светает. В темноте страшно, при свете еще страшнее. Всегда страшно.
Серым комочком пробежал вечный страх по комнатам профессорской квартиры, и никто его не заметил. Никто не знал, что целая мышиная семья помогает червяку точить деревянные скрепы пола и прочные, но не вечные стены. Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаиваются, все стремится к уровню, иссякает энергия мира – но еще далеко до конца.
Мышиный хвостик на мгновение задержался наружу – и исчез.
Кукушка прокуковала шесть раз. Профессор заскрипел кроватью. Солнце задело занавеску окна.
Вместе с ним к окну подлетела ласточка, сегодня прилетевшая из Центральной Африки на Сивцев Вражек.
Замечательный день
Родилось утро – в белой сорочке румяное утро. Молочными крыльями забилось в окна. И тогда щелкнула задвижка и окно распахнулось. Танюша, щурясь, столкнулась с утром, и холодок залился за рубашку. На цыпочках, вприпрыжку, отбежала обратно к постели – еще понежиться, счастливая, что день будет сегодня хороший.
На цыпочках, вприпрыжку, отбежала обратно к постели – еще понежиться, счастливая, что день будет сегодня хороший.
Ранним утром, при окне открытом, – какие думы у девушки в шестнадцать лет? Первая – день хороший, вторая – сегодня воскресенье. Вместо третьей думы – беспричинная улыбка. Затем заботы: позвонить Леночке, чтобы вечером непременно пришла. И понежиться в постели хорошо, и облиться холодной водой тянет. Напившись кофе, разобрать новые ноты. Вечером будет играть смешной и милый Эдуард Львович.
Внучка деда своего, «птичьего профессора», – сразу заметила, что прилетели ласточки. Непременно сказать дедушке. Вчера их еще не было, значит, сегодня первый день настоящей весны.
Колокола, колокола, шум проснувшейся улицы и ласточкино «чирр». Жизнь впереди длинная-длинная. И тонкими пальцами (ногти обрезаны низко, как у музыкантши) погладила круглеющий скат плеча, с которого упала рубашка. Потом сразу ноги на коврик – и побежала к зеркалу, посмотреть на лицо. «Вовсе я не безобразная!»
В шестнадцать лет девушка знает свои глаза и делает презрительную гримаску; но зеркало еще не говорит ей о тайне голого плечика. Через минуту – холодно, ни для кого отразило оно руку, поднявшую кувшин, и струю, облившую тело, – разве для ласточки, которая пролетела мимо окна. И деловито, крепко делало свое дело мохнатое полотенце. И вот Танюша готова.
Через минуту – холодно, ни для кого отразило оно руку, поднявшую кувшин, и струю, облившую тело, – разве для ласточки, которая пролетела мимо окна. И деловито, крепко делало свое дело мохнатое полотенце. И вот Танюша готова.
На стене висит фотография картины, где люди на диване слушают музыку.
Пока пришита пуговка – уже девятый час. Будить дедушку – привилегия Танюши. Она стучит в дверь:
– Дедушка, вставайте! Чудесный день и новость: прилетели ласточки.
– Алло, Танюша, встаю, встаю…
– Как вы спали?
– Хорошо, ты как?
– Тоже хорошо. Ах, дедушка, какой день! Я велю подавать кофе.
В этот день во многих домах московских распахнулись утром окна и выглянули из них лица молодые, старые, заспанные, свежие, щурились, слушали колокольный воскресный перезвон. Сыпалась старая затвердевшая замазка с прилипшей к ней ватой, вынимались и выливались стаканчики кислоты, подметался подоконник, и крошки сора падали за окно. В верхние этажи солнце, воздух и колокола влетали полновесными клубами и дробились о стены, о печку, о мебель. У верующих было на душе пасхально, неверующим весна принесла животную радость.
У верующих было на душе пасхально, неверующим весна принесла животную радость.
На дворе выбивали ковер, на окне в кухне кухарка поставила ящик с землей и натыкала проросших луковиц.
На углу Малой Бронной студент покупал моченые яблоки и шел домой в Гирши[1], локтем прижимая распавшиеся листы Римского права. Под каменным мостом мальчик, водя языком по углу раскрытых губ, забрасывал нитку с булавкой и думал о том, что вдруг схватит большая; ноги перепачкал по колено.
Звенел трамвай неистово и напрасно, и городовой белой нитяной перчаткой законополагал движение двух пролеток и одного ломовика.
В этот день семинарист, уже полгода думавший о самоубийстве, решил отложить еще, а женщина-врач, одинокая и некрасивая, краснея, купила недорогую шляпу, все равно какую; однако сегодня ее не надела, а вышла в старой, так как с юности выработала в себе сильную волю. Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышение.
Это был вообще – замечательный день.
Кладбища
Но есть окна, которые никогда не открываются; иные за решетками, как в тюрьмах. Через стекла, всегда пыльные, тусклый свет падает на шкафы и регистраторы, набитые бумагами.
Через стекла, всегда пыльные, тусклый свет падает на шкафы и регистраторы, набитые бумагами.
В Париже, в Берлине, в Лондоне, где весна наступила раньше, она опасливо обошла старые здания, не бросив луча света в окна дипломатических архивов. Умнейшие мужья, полиглоты, умевшие мыслить шифром, стерегли эти кладбища исписанной бумаги, чертежей и негативов.
Солнце думало, что жизнью земли руководит оно. Вся человеческая жизнь рисовалась ему лишь воплощением энергии его лучей. Оно населило полярный Север высшими формами органического мира; когда пришло время, оно создало страшную катастрофу живущего, убило высокую культуру полюсов и развило отсталую экватора до совершеннейших форм. Оно смеялось над стараниями земных организмов приспособиться, над их борьбой за существование, мало влиявшей на улучшение породы и облегчение жизни. Все, что делал полип или человек, – было делом его, солнца, было его воплощенным лучом. Ум, знание, опыт, вера, как тело, питанье, смерть, – были лишь превращением его световой энергии.
Но маленький, страдавший насморком, зашитый в полосы материи на пуговках человек, защитившись от солнца стенами, впустив лишь нужный пучок света по проволоке в запаянный стеклянный стаканчик, пробовал вершить свою жизнь по-своему. Он макал перо в чернила, писал, шептал и приказывал.
Из стоп исписанной бумаги создавались гекатомбы[2]. По проволокам текли правда и ложь, подогревались и создавали факт, мотив, причину, повод. Мозг человека боролся с солнцем, стараясь подчинить живущее мертвой воле. Огораживал забором кусок земли, стенами город, границами государство, цветом расу, традициями национальность, современностью историю, политикой быт. Хитрый и пытливый мозг строил пирамиду из живых и трупов, взбирался по ней до верхней точки – и рушился вместе с нею.
Солнце смеялось над ним, он смеялся над солнцем. Но последним смеялось всегда оно. С непостижимой для ума человека силой солнце швыряло на землю снопы энергии, рожденной в электромагнитном вихре. Как таран, падали его лучи на землю – и рушилось все, что человек считал созданием своего ума, создавалось все, что только могло быть созданьем солнца.
Молчаливейший, в себе самом замкнутый чиновник разобрал слово за словом шифрованное письмо и перевел на рубленую, точную немецкую прозу. Посланник прочел, усмехнулся, одобрил, так как в письме одобрили его.
Посланник думал, что знает все, что знают высшие сферы Берлина, но знал он только большую часть. Высшие сферы Берлина знали все, кроме того, что знал маленький сербский гимназист[3]. Гимназист же знал очень мало, почти ничего. Он был отравлен капелькой национального яда, был честен, пылок, искренен и истеричен. Он учился стрелять в цель, нарисованную на внешней стене курятника. Это могло дорого обойтись пестрым курам и их крикливому паше; но по счастливой случайности пули ни разу их не задели.
Когда маленький серб научился хорошо стрелять, он решил сделаться национальным героем. Для этого нужно убить врага нации – иного способа стать героем не придумано. А так как много маленьких сербов учились стрелять в цель на стене курятника, то одному из них судьба непременно должна была послать новую цель – грудь австрийского эрцгерцога.
Этого могло и не случиться. Но тогда случилось бы что-нибудь другое. Что бы ни случилось – в архивах за пыльными окнами на все был готов ответ. Солнце творило историю, человек писал к ней комментарий, но творцом истории считал себя. Поэтому он окружил себя стенами и не распахивал окон даже весною. Кладбище бумаг и секретов, добытых дружбой и шпионажем, он считал сигнальной станцией мира и пульсом страны.
Таких кладбищ было много, больших и малых; ими гордились страны, властители и народы.
И хотя в беге веков и кружении туманностей сплоченная сила всех этих кладбищ значила не больше чем придет ли Леночка вечером слушать музыку на Сивцев Вражек, – но в жизни Леночки и Сивцева Вражка, как в жизни всех, кто пашет, пишет, сеет и любит, кто жил вчера и будет жить завтра, была огромной и решающей роль бумажных кладбищ.
И в тот момент, когда девушка шестнадцати лет распахнула окно и увидела первую ласточку, – искра радиостанции чиркала воздух, хитрым червячком вилась мысль в мозгу дипломата, курица на насесте наклонила случайно голову и избегла пули гимназиста, перо газетчика надувало пузырь национальной гордыни.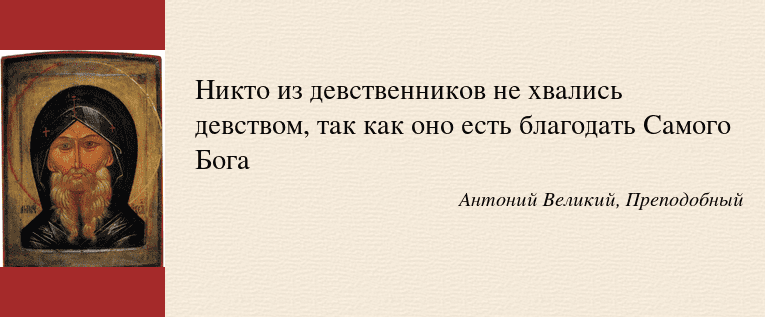
По сырой и тучной земле, забивая копыта, лошадь тащила плуг.
Легким движением рычага рабочий опрокинул в форму ковш расплавленного металла.
Набухли почки молодой березы. Зеленела трава.
Но тот, кто шел за плугом, еще не знал, что на зеленой лужайке, близ подрезанной снарядом березы, он падает, распластанный и оглушенный, остывшим и вновь разгоряченным металлом. Не знал этого никто. Это было неважно. И осталось бесследным.
На бумажных кладбищах кресты заменены цифрами. В округленных цифрах исчезают лишние единицы. Того, кто шел за плугом, не было и не будет; нет ни рабочего, ни березы, ни подрезавшего ее снаряда.
Живое исчезло в округлении цифр.
Космос
Вечером окна домика на Сивцевом Вражке были гостеприимно освещены.
Подходя к крыльцу, Эдуард Львович поднял голову и увидел красные гардины зала. Ему стало тепло и приятно. В музыкальные пальцы, озябшие в карманах легкого пальто, возвращалась кровь и подвижность. Он сегодня запоздал и застал всех в сборе, в столовой, за чаем.
У самовара Аглая Дмитриевна, в очках, с большой старинной брошью; старый профессор спорил с молодым другом, тоже профессором, физиком Поплавским. Танюша и Леночка слушали.
У Леночки круглые глаза на розовом круглом лице. Когда Леночка слушает – она удивлена; когда удивлена – у нее подымаются брови и раскрывается пуговка рта. Танюша умеет слушать, одновременно всматриваясь в говорящего и думая о нем, об его собеседнике, о себе самой, о смешном удивлении Леночки, о том, как много нужно и хочется знать.
Есть и еще гости: почтительный и неприятно-умный студент Эрберг и дядя Боря, старший сын орнитолога с женой, – оба они люди незаметные.
Эдуард Львович вошел, потирая руки. Его обычное место – по левую руку Аглаи Дмитриевны – ждало его. Вообще – все было в порядке, как установилось за два-три года знакомства.
Пили чай. Физик Поплавский говорил с профессором об опытах Майкельсона и Мореля и о сдвиге световых волн. Орнитолог высказывал опасение: не беспомощна ли физика?
– Ваш светоносный эфир подозрителен! Слишком многое приходится прилаживать и приспосабливать. Вы, физики, в тупике.
Вы, физики, в тупике.
Поплавский тупика не отрицал, – но разве это колеблет науку? Подождем завтра!
После чаю перешли в зал. На широчайшем диване приютились профессор, дядя Боря и Танюша. Аглая Дмитриевна в своем кресле под лампой – с вязаньем в руках. Леночка удивленно на стуле. Поплавский в самом затененном углу. Жена дяди Бори где-то незаметно.
Эдуард Львович играл где-нибудь ежедневно, но лучшим днем его было воскресенье в семье орнитолога. И он волновался. Эдуард Львович не был стар, но казался стариком: лысый, с длинными, незачесанными косами на затылке и висках. Один глаз его плохо видел. Эдуард Львович горбился, смущался своей некрасивостью и часто потирал руки.
Сел у рояля, но сейчас же вскочил и долго перевинчивал стул, устанавливая его на нужном от клавиш расстоянии. Взял аккорд, пробежал по клавишам и опять забеспокоился, оглядел крышку рояля, заглянул под него. Забеспокоилась и Танюша, бросилась помогать. Оказалось – конец ковра попал под ножку рояля.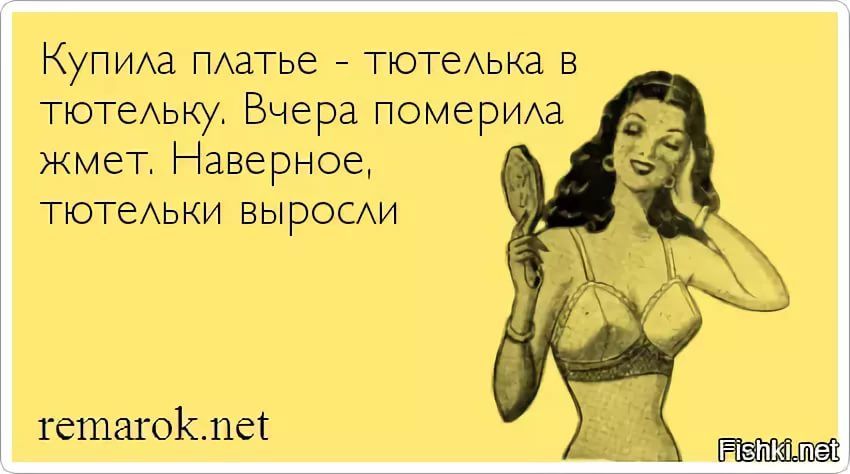 С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд – хорошо.
С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд – хорошо.
Вместо «л» Эдуард Львович выговаривал нечистое «р». И сказал:
– Я бы хотер попробовать сыграть… но торько есри вы хотите срушать… но могу и что-нибудь другое…
Поняла Танюша:
– Сыграйте, Эдуард Львович, свое, про что вы говорили тогда. Оно готово?
– Готово ли – как сказать… Я уже знаю. Но ведь это почти импровизация. Я называю это… можно назвать «Космос».
Физик отозвался:
– Космос, это… интересно. Именно музыка только и могла бы вполне…
Леночка сидела удивленная. Эдуард Львович смущенно попросил:
– Я порагар бы ручше немного меньше света…
Танюша гасит огни. Остается только лампа, освещающая рукоделье старухи.
И Эдуард Львович играет.
Леночка удивленно смотрит на пальцы композитора, мелькающие в полутьме по клавишам, на его голову, то откинутую, то припадающую. Леночка слушает звуки в их раздельности и в их слиянии и думает, что это не похоже на мелодию, на танец, на увертюру оперы. Думает и о том, что Эдуарда Львовича называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.
Думает и о том, что Эдуарда Львовича называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.
Дядя Боря хмур. Он – инженер, но неудачник. У него некрасивая старообразная жена. Он многого не знает, в том числе и музыки. Бетховен, Григ – все это слыхал, имена, – но как различать? Скрябин – диссонансы. Почему то, что играет Эдуард Львович, называется космосом? Космос, это что-то астрономическое… Было бы хорошо, если бы все, превышающее уровень мышления дяди Бори, оказалось выдумкой и вздором. Тогда дядя Боря вырос бы и стал величиной. И вообще… почему паровые котлы ниже музыки? Что они смыслят в паровых котлах? И болезненно сознает дядя Боря, что именно музыка выше паровых котлов и что это его, дядю Борю, принижает, делает несчастным, неинтересным.
Старый орнитолог полулежит с закрытыми глазами. Звуки носятся над ним, задевают его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают бурной стаей, с гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на земле, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван, милая внучка, доступность высшего, что зовется искусством. Я – профессор, я известен, я стар, я не хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, исполнивший, уверенный, уходящий. Звуки – как цветы, музыка – пестрый луг, леса, водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер, и он чувствует многое, что другим дается наукой, мыслью, старостью.
Иногда налетают бурной стаей, с гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на земле, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван, милая внучка, доступность высшего, что зовется искусством. Я – профессор, я известен, я стар, я не хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, исполнивший, уверенный, уходящий. Звуки – как цветы, музыка – пестрый луг, леса, водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер, и он чувствует многое, что другим дается наукой, мыслью, старостью.
В мировых пространствах, среди туманностей, вихрей, солнца, носится остывшая планета – лампа Аглаи Дмитриевны. Старуха слушает, вяжет, не спуская ни одной петли. Слушает с удовольствием, думает о том, что в самоваре осталось мало воды, а угли еще горячие. Но Дуняша догадается. Эдуард Львович прекрасный музыкант и отличный учитель. Танюше шестнадцать лет, пусть учится. Но все равно – выйдет замуж, и это главное. С музыкой выйдет лучше. А свои исторические науки тоже пусть кончит, торопиться некуда. Танюша – сирота, но счастлива та сирота, у которой живы и благополучны дедушка и бабушка. Однако он долго играет. Аглая Дмитриевна посмотрела поверх очков и чуть было не спустила петли.
Танюше шестнадцать лет, пусть учится. Но все равно – выйдет замуж, и это главное. С музыкой выйдет лучше. А свои исторические науки тоже пусть кончит, торопиться некуда. Танюша – сирота, но счастлива та сирота, у которой живы и благополучны дедушка и бабушка. Однако он долго играет. Аглая Дмитриевна посмотрела поверх очков и чуть было не спустила петли.
В самом темном углу на мягком стуле профессор Поплавский думал о своем. Мироздание – огромно, но для понятия о нем нужно представить атом. И атом не последнее. Эдуард Львович хочет постигнуть мироздание силами музыки, семью ее основными тонами, – но художественной догадкой знания не подменишь. Семь цветов спектра дают больше, и вот мы взвешиваем точными весами горящую массу далекой звезды, определяем сложный состав небесного тела, устанавливаем его возраст. Но, может быть, музыка права, так как идет тем же путем постижения и приводит к той же иллюзорности мироздания. Астроном изучает Вселенную. Какую? Ее в этом виде уже нет! В телескоп мы видим прошлое звезд, планет, туманностей. Солнце было таким… восемь минут назад, звезда была такой – тысячелетие тому назад, другая звезда – десять, сто тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно. Музыка велика тем, что ей не приходится оперировать словами, цифрами, что она не переводится на несовершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса нет, но переведи их на язык слов и цифр… и получится… Эвклидова геометрия.
Солнце было таким… восемь минут назад, звезда была такой – тысячелетие тому назад, другая звезда – десять, сто тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно. Музыка велика тем, что ей не приходится оперировать словами, цифрами, что она не переводится на несовершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса нет, но переведи их на язык слов и цифр… и получится… Эвклидова геометрия.
М. Осоргин «Отговорила роща золотая…». Есенин [Maxima-Library]
М. Осоргин
«Отговорила роща золотая…»
Покончил с собой прекрасный поэт Сергей Есенин.
Не только безвкусицей, но и неуважением к памяти покойного было бы пользоваться его последним трагическим жестом для политических намеков и выводов. Если Есенин ушел из жизни, значит, она утратила для него силу страстного притяжения, какую имела прежде, значит, он исчерпал для себя и ее радости и ее огорчения. Пусто стало, и он ушел; и никто ему не судья, как никто не мог быть советчиком. И хотя умер он молодым, слишком молодым (30 лет), но от жизни он успел взять все, что мог, хотел и был способен. Да и трудно было бы представить себе Сережу Есенина не только нежным, но и совсем взрослым.
Да и трудно было бы представить себе Сережу Есенина не только нежным, но и совсем взрослым.
Обычная и приятная характеристика Есенина: талантливый поэт и хулиган. Последний эпитет он дал себе сам и от него не отказывался. А так как он был из семьи крестьянской и хулиганил соответственно уровню своего воспитания и развития, то ему вменялось в сугубую вину то, что в прежнее время поэту пушкинской поры из светской золотой молодежи часто ставилось почти в заслугу и уж во всяком случае прощалось. Можно одно сказать: от хулиганства Есенина никто никогда не страдал, кроме него самого.
Каким он был поэтом — про то напишут поэты и критики поэзии. Для меня же Есенин был — среди живых и творящих — самым большим и самым чистым; подлинным, настоящим русским поэтом его поколения. Вероятно, на поэте лежит много обязанностей: воспитывать нашу душу, отражать эпоху, улучшать и возвышать родной язык; может быть, еще что-нибудь. Но несомненно одно: не поэт тот, чья поэзия не волнует.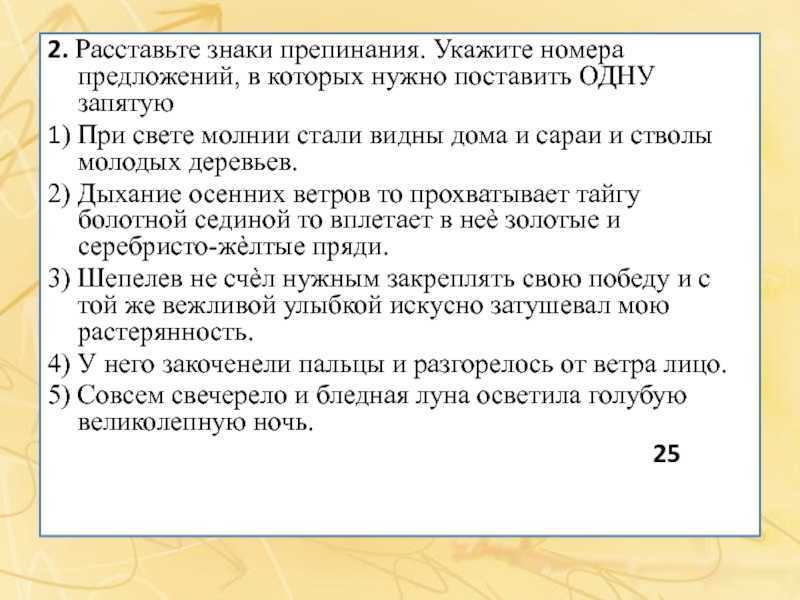 Поэзия Есенина могла раздражать, бесить, восторгать — в зависимости от вкуса. Но равнодушным она могла оставить только безнадежно равнодушного и невосприимчивого человека. Стихи же его последних двух лет, не все, но многие, большинство (особенно «Москва кабацкая») волновали таким высоким волнением, какого давно уже не дают нам переживать другие поэты. Пусть Пастернак создал или создает новую школу поэзии, пусть Ходасевич «привил классическую розу к советскому дичку», — им и прочим почет и уважение, — но на простых и чутких струнах сердца умел играть только Сергей Есенин, и, после Блока, только его поэзия ощущалась, как дар свыше, как то, за что можно простить не одно «хулиганство». Я говорю не о «литературщине», не об одном созерцании его стихов, а о его поэзии, о том, что под этим словом понимаю и считаю правильным понимать.
Поэзия Есенина могла раздражать, бесить, восторгать — в зависимости от вкуса. Но равнодушным она могла оставить только безнадежно равнодушного и невосприимчивого человека. Стихи же его последних двух лет, не все, но многие, большинство (особенно «Москва кабацкая») волновали таким высоким волнением, какого давно уже не дают нам переживать другие поэты. Пусть Пастернак создал или создает новую школу поэзии, пусть Ходасевич «привил классическую розу к советскому дичку», — им и прочим почет и уважение, — но на простых и чутких струнах сердца умел играть только Сергей Есенин, и, после Блока, только его поэзия ощущалась, как дар свыше, как то, за что можно простить не одно «хулиганство». Я говорю не о «литературщине», не об одном созерцании его стихов, а о его поэзии, о том, что под этим словом понимаю и считаю правильным понимать.
Вряд ли многие из здешних, зарубежных, знали Есенина лично; он «расцвел» в революции, а до нее был известен мало. Характеризовать его как человека в такую минуту неуместно.
Лучше всех знал себя и лучше всех сказал о себе сам Есенин. И лучше всех объяснил он лежавшую на нем «роковую печать», тем, что он хотел повенчать «розу белую с черной жабой», что он «и похабничал и скандалил для того, чтобы ярче гореть». И этот внутренний разлад сердца и ума, чистоты и порока, веры и безверия, поэзии и хулиганства, — он сумел выразить изумительными строками признания:
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что неверю теперь.
«Чертей» в своей душе ои не отрицает, но он знает и то, что
…коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.
В сознании этой путаницы в душе поэта, веры и безверия, Божьего дара и кабацкого разгула, — он оставил нам строки своего завещания, обращенного к тем, кто будет свидетелем ухода его многогранной души:
Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной, —
Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.
Но сам он выбрал и принял смерть иную… Поэтически-покаянными словами. С. Есенин в последнее время сам себя «вывел из моды». Он это знал и, по-видимому, считал свою поэтическую карьеру вообще завершенной. Его позднейшие стихи полны грусти неподдельной и чувств осенних. Я закончу отрывком из прошлогоднего его стихотворения «Отговорила роща золотая…»:
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.
И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком…
Скажите так… что роща золотая
Отговорила милым языком.
Марьина роща
Марьина роща
Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня Бернштейн (Ивич) и позвал нас ночевать к себе. Там прыгала крошечная девочка-«заяц»; уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хрупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он
Там прыгала крошечная девочка-«заяц»; уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хрупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он
Роща[61]
Роща[61] Еще вчера, руками двигая, Листвы молитвенник листала. Еще казалась вещей книгою Без окончанья и начала. А нынче в клочья книга порвана, Букварь моей начальной школы, И брошена на тропы черные В лесу, беспомощном и голом. И дождик пальцами холодными Перебирает
245. ДРУЖЕСКАЯ РОЩА
245. ДРУЖЕСКАЯ РОЩА Дорогою о чистых и прекрасных Предметах размышляли мы, пока Бок о бок двигались, в руке рука, Безмолвствуя… среди цветов неясных. Мы шли, боясь нарушить тишину, Обручники, в ночи зеленой прерий И разделяли этот плод феерий, Безумцам дружественную
ОСОРГИН Михаил Андреевич
ОСОРГИН Михаил Андреевич
наст. фам. Ильин; псевд. М. И-н, М-и-н, Москвич;7(19).9.1878 – 27.11.1942Писатель, журналист, мемуарист. Публикации в журналах «Русское богатство», «Вестник Европы», «Детский мир», в газетах «Русские ведомости» (более 400 публикаций), «Последние новости» и др.
фам. Ильин; псевд. М. И-н, М-и-н, Москвич;7(19).9.1878 – 27.11.1942Писатель, журналист, мемуарист. Публикации в журналах «Русское богатство», «Вестник Европы», «Детский мир», в газетах «Русские ведомости» (более 400 публикаций), «Последние новости» и др.
Марьина роща
Марьина роща Когда-то стоял в 14-м проезде Марьиной рощи двухэтажный деревянный домишко под номером 15. Окружали его такие же серенькие домики с подслеповатыми окошками, дырявыми крышами, «удобствами» во дворе. Весной и осенью Марьина роща утопала в грязи, летом страдала от
МАРЬИНА РОЩА
МАРЬИНА РОЩА Когда-то стоял в 14-м проезде Марьиной Рощи двухэтажный деревянный домишко под номером «15». Окружали его такие же серенькие домики с подслеповатыми окошками, дырявыми крышами, «удобствами» во дворе. Весной и осенью Марьина Роща утопала в грязи, летом страдала
Марьина роща
Марьина роща
Когда-то стоял в 14-м проезде Марьиной рощи двухэтажный деревянный домишко под номером 15.
Марьина роща
Марьина роща Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня Бернштейн (Ивич) и позвал нас ночевать к себе. Там прыгала крошечная девочка «заяц»; уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хрупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он
Георгий Михайлович Осоргин
Георгий Михайлович Осоргин Зрительная память хорошо сохранила мне внешность и манеру держаться Георгия Михайловича Осоргина. Среднего роста блондин с бородкой и усами, всегда по-военному державшийся: прекрасная выправка, круглая шапка чуть-чуть набекрень («три пальца
Марьина Роща
Марьина Роща
Дед и бабушка Шебаршина – Михаил Андреевич и Евдокия Петровна – приехали в Москву в 1903 году из Подмосковья, а точнее, из Дмитровского района, из деревни Гари, и очень быстро приспособились к здешним условиям. Работы они не боялись, брались за любое дело, а вот
Работы они не боялись, брались за любое дело, а вот
М. Осоргин «Отговорила роща золотая…»
М. Осоргин «Отговорила роща золотая…» Покончил с собой прекрасный поэт Сергей Есенин.Не только безвкусицей, но и неуважением к памяти покойного было бы пользоваться его последним трагическим жестом для политических намеков и выводов. Если Есенин ушел из жизни, значит,
ПОЕЗД «ЗИМА — МАРЬИНА РОЩА»
ПОЕЗД «ЗИМА — МАРЬИНА РОЩА» Евтушенко — почетный гражданин городов Атланта, Варна, Зима, Нью-Орлеан, Оклахома, Петрозаводск, Талса.Нас интересует Зима. Зима — солидный град районный, а никакое не село. В ней ресторанчик станционный и даже местное ситро. Есть
Орловская корабельная роща
Орловская корабельная роща
Не только где-то в России есть уникальные реликты родной природы, представляющие огромную ценность. Это, например, и наша Орловская корабельная роща в Великоустюгском районе, которая, по словам профессора Архангельского лесотехнического
Это, например, и наша Орловская корабельная роща в Великоустюгском районе, которая, по словам профессора Архангельского лесотехнического
Полушкина роща
Полушкина роща …Оплачем наши прошедшие мечтательные радости, погорюем о настоящем, заглянем в будущее. Из письма Н. Некрасова сестре Чуть свет кто-то постучал в окно. Кровать Николая стояла рядом, и он, проснувшись прильнул к стеклу.За пыльным окном смутно мелькало лицо
Эхо родной земли
ГЛАВА ОДИН Эхо родной земли
Два века русской деревни
СЕРЖ ШМЕМАНН
Альфред А. Кнопф
Прочитать обзор
Это история русской деревни, известной в разное время за свою трехвековую письменную историю как Горяиново, Карово, Сергиевское, а ныне Кольцово.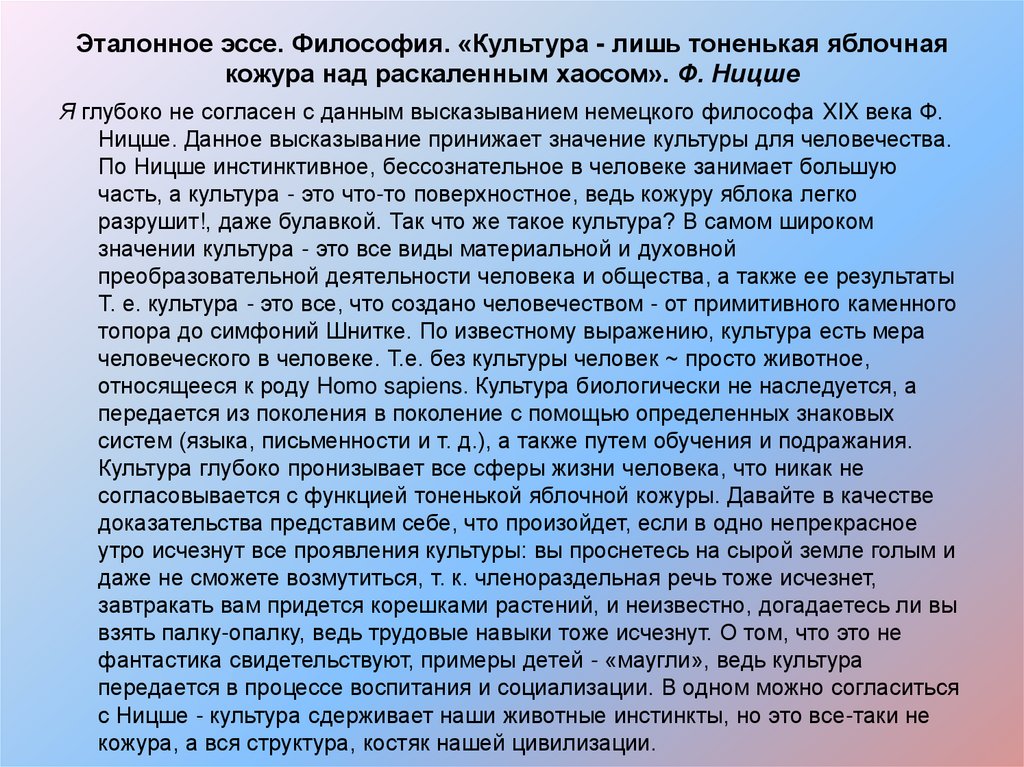 Он расположен на берегу реки Оки в древней русской глубинке, 90 миль на юг
Москвы, недалеко от города Калуги. Эта деревня меня изначально привлекала, потому что до русской революции она была частью поместья, принадлежавшего семье моей матери. Но длительный отказ советского правительства от
отпусти меня туда превратило мое любопытство в миссию. В конце концов я добрался до Кольцово только тогда, когда коммунистическое правление начало ослабевать. я познакомился с людьми; Я погрузился в краеведение; Я даже купил там бревенчатый дом. Кольцово стало моим
уголок России — мое приобщение к прелести, красоте и романтике этой огромной северной земли, а также ее отсталости, жестокости и страдания.
Он расположен на берегу реки Оки в древней русской глубинке, 90 миль на юг
Москвы, недалеко от города Калуги. Эта деревня меня изначально привлекала, потому что до русской революции она была частью поместья, принадлежавшего семье моей матери. Но длительный отказ советского правительства от
отпусти меня туда превратило мое любопытство в миссию. В конце концов я добрался до Кольцово только тогда, когда коммунистическое правление начало ослабевать. я познакомился с людьми; Я погрузился в краеведение; Я даже купил там бревенчатый дом. Кольцово стало моим
уголок России — мое приобщение к прелести, красоте и романтике этой огромной северной земли, а также ее отсталости, жестокости и страдания.
Впервые я приехал в Россию с семьей в 1980 году, но прошло десять лет, прежде чем я добрался до села. К тому времени суровые идеологические табу советской эпохи были сняты, и люди в деревне начали терять боязнь говорить. иностранцам. Постепенно они открыли свои воспоминания и свою историю: как женщины одурачили немецких оккупантов, которые хотели срубить величавые лиственницы Аллеи Любви, как старый пьяный Прохор Фомичев взял церковь
кроме после войны кирпичи на водку менять. Некоторые пошли еще дальше и вспомнили, как в 30-е годы большевики отправляли в ссылку трудолюбивых крестьян, а остальных загоняли в колхозы. Учительница на пенсии даже вспомнила, как раньше
крестьяне останавливались, чтобы послушать большой «серебряный колокол» в церкви, и как деревенские девушки таращились на бантики и блузки молодых барынь, идущих на воскресную службу. Люди говорили о
и настоящее — о том, как юноши уходили из села, как только кончали школу, и оставались одни старики да пьяницы; как возлюбленный бухгалтера-альбиноса был забит до смерти своим сыном в пьяной драке; как никто
знал, что делать с новой «демократией»; как колхоз продавал скот, чтобы расплатиться с растущими долгами, пока директор строил себе большой новый дом.
иностранцам. Постепенно они открыли свои воспоминания и свою историю: как женщины одурачили немецких оккупантов, которые хотели срубить величавые лиственницы Аллеи Любви, как старый пьяный Прохор Фомичев взял церковь
кроме после войны кирпичи на водку менять. Некоторые пошли еще дальше и вспомнили, как в 30-е годы большевики отправляли в ссылку трудолюбивых крестьян, а остальных загоняли в колхозы. Учительница на пенсии даже вспомнила, как раньше
крестьяне останавливались, чтобы послушать большой «серебряный колокол» в церкви, и как деревенские девушки таращились на бантики и блузки молодых барынь, идущих на воскресную службу. Люди говорили о
и настоящее — о том, как юноши уходили из села, как только кончали школу, и оставались одни старики да пьяницы; как возлюбленный бухгалтера-альбиноса был забит до смерти своим сыном в пьяной драке; как никто
знал, что делать с новой «демократией»; как колхоз продавал скот, чтобы расплатиться с растущими долгами, пока директор строил себе большой новый дом.
Первым, кого я встретил в деревне, был Лев Васильевич Савицкий, отставной заведующий действовавшим здесь после войны приютом, убежденный коммунист. Он рассказал мне, как агент КГБ вышел туда несколько лет назад, потому что какой-то иностранный корреспондент пытался посетить Кольцово, утверждая, что его предки оттуда. Лев Васильевич сказал, что агент и сельские старосты пришли к выводу, что это место слишком ветхое, чтобы показывать его иностранному репортеру, что он только напишите как стало хуже при коммунистах. Так я узнал, наконец, настоящую причину, по которой меня так долго не пускали в Кольцово. Когда я сказал Льву Васильевичу, что я тот любознательный корреспондент, он замолчал и на какое-то в то время как он смотрел на меня с подозрением и беспокойством.
Лев Васильевич рассказывал мне, что господский дом сгорел в 1923 году, и от старой усадьбы осталась только выпотрошенная колокольня, полуразрушенная конюшня и бывшая церковно-приходская школа. Школа была педагогическим институтом.
после революции и детский дом после войны; теперь это была «база отдыха» для рабочих гигантского турбинного завода в Калуге, в 25 милях к западу. Деревня и земли в конечном итоге были преобразованы в колхоз,
или советский колхоз, названный Суворовым в честь русского военачальника восемнадцатого века. Колхоз производил молоко и мясо, но в основном поглощал государственные дотации, не получая при этом ни копейки прибыли. После советского
Союз распался, колхозы были официально освобождены от жесткого государственного контроля, суворовский колхоз сменил название на Кольцовское сельскохозяйственное объединение и вместо государственных кредитов стал поглощать банковские займы.
Школа была педагогическим институтом.
после революции и детский дом после войны; теперь это была «база отдыха» для рабочих гигантского турбинного завода в Калуге, в 25 милях к западу. Деревня и земли в конечном итоге были преобразованы в колхоз,
или советский колхоз, названный Суворовым в честь русского военачальника восемнадцатого века. Колхоз производил молоко и мясо, но в основном поглощал государственные дотации, не получая при этом ни копейки прибыли. После советского
Союз распался, колхозы были официально освобождены от жесткого государственного контроля, суворовский колхоз сменил название на Кольцовское сельскохозяйственное объединение и вместо государственных кредитов стал поглощать банковские займы.
Но при первом посещении я хотел знать не это. Хотелось только увидеть красоту и романтику, пройтись там, где ходили мои предки, уловить отголоски родной земли. Был разгар лета, я был в России с кратким визитом,
на землю шла свобода, и место было красивое — вечный русский пейзаж с березами, извилистыми реками, бревенчатыми домами и бескрайними просторами. Внук Льва Васильевича, Рома, в залатанных штанах, закатанных в стиле Тома Сойера, вел
меня к местам, которые так любовно описывал мой дед: старый парк, засаженный двести лет назад ровными рядами лип; аллея парящих лиственниц, известная как Аллея Любви, которая вела мимо Круглого Луга, низкого
холм намеренно оставлен диким для пчел; ледяной «Родник разбойников», воды которого мой дед использовал для дома; крутой спуск через дубы и березы Заразинского леса, круто открывавшийся на
потрясающий вид на реку Оку, извивающуюся через пышные заливные луга, обрывы и березовые леса.
Внук Льва Васильевича, Рома, в залатанных штанах, закатанных в стиле Тома Сойера, вел
меня к местам, которые так любовно описывал мой дед: старый парк, засаженный двести лет назад ровными рядами лип; аллея парящих лиственниц, известная как Аллея Любви, которая вела мимо Круглого Луга, низкого
холм намеренно оставлен диким для пчел; ледяной «Родник разбойников», воды которого мой дед использовал для дома; крутой спуск через дубы и березы Заразинского леса, круто открывавшийся на
потрясающий вид на реку Оку, извивающуюся через пышные заливные луга, обрывы и березовые леса.
Вечером я сидел под яблоней возле дома Льва Васильевича, блаженно впиваясь в старинные байки и сплетни с горячим чаем. Смех детей, играющих на немощеной улице, смешивался с летним гамом лягушек, сверчки и птицы. Мне казалось, что я уже был здесь раньше, в такой же славный день, как этот, столетием раньше, который мой дед Сергей Осоргин описал в своих воспоминаниях:
Летом окна все открывались, вечерний чай накрывался на террасе, а мы с сестрой Марией сидели на ступеньках и слушали, как мама играет мой любимый ноктюрн Шопена, и звонят вечерние колокола: уже
темнеет, только бледно-желтая полоса остается на западном небе, непрерывная тонкая трель маленькой лягушки поднимается из пруда у амбара, а из близлежащего села Горяиново доносится крестьянская песня: «Ах ты день, этот мой день , финиш
быстро.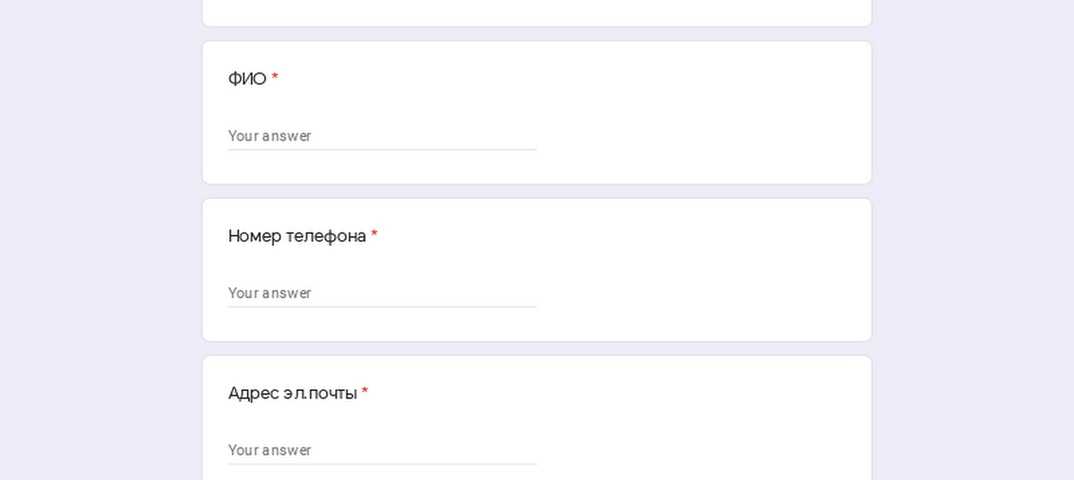 . . Я счастлив, совершенно счастлив, но я жажду чего-то еще более чудесного… милая, романтическая грусть Шопена, какая музыка! и как играет мама! Звучит водянистая трель, растут звезды Большой Медведицы.
ярче сильный аромат розы, душистого горошка и резеды: «О, ты, день, этот мой день, кончай скорее…» Боже мой, я благодарю Тебя за то, что все это было, и что все это все еще живет в моей душе.
. . Я счастлив, совершенно счастлив, но я жажду чего-то еще более чудесного… милая, романтическая грусть Шопена, какая музыка! и как играет мама! Звучит водянистая трель, растут звезды Большой Медведицы.
ярче сильный аромат розы, душистого горошка и резеды: «О, ты, день, этот мой день, кончай скорее…» Боже мой, я благодарю Тебя за то, что все это было, и что все это все еще живет в моей душе.
На поиски этого уголка России меня впервые натолкнуло описание дедушкиной юности, проведенной здесь. Когда я, наконец, получил к нему доступ, я узнал, что все экстраординарные ресурсы первого в мире полицейского государства не удалось искоренить прошлое. Она жила за навязанными идеологическими формулами и лозунгами, подпольными истинами, бережно хранимыми в закрытых архивах и в глубоких тайниках народной памяти.
В Кольцово первым хранителем была Александра Никитична Трунина. Когда я познакомился с ней, Александре Никитичне было за семьдесят, она после войны поселилась в Кольцово, чтобы работать в детском доме.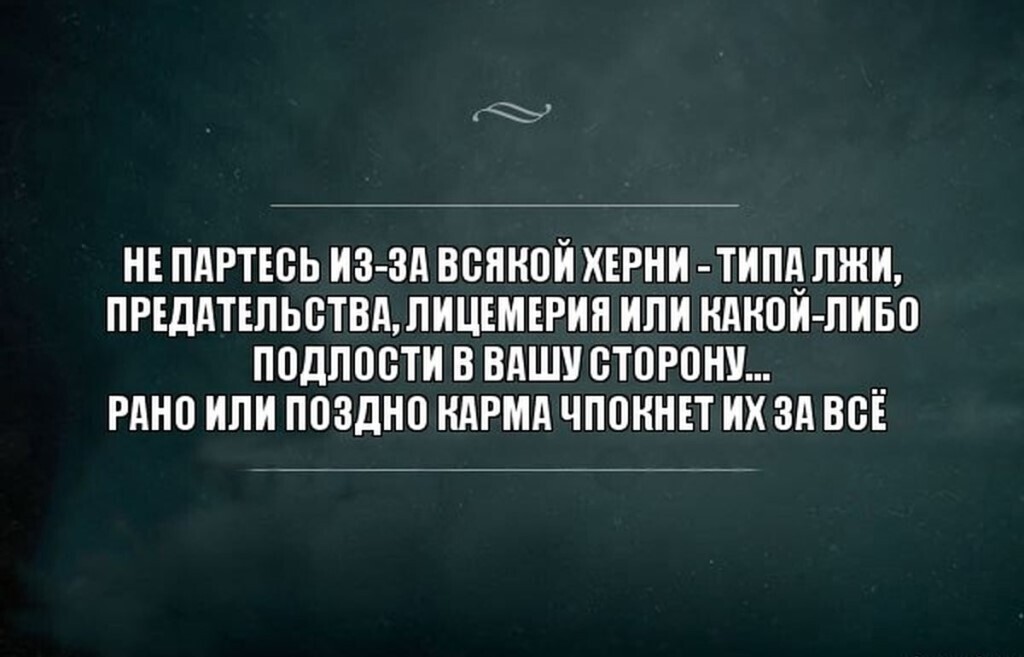 Ее опыт работы учителем истории вскоре объединился с
ее безграничное любопытство утвердить ее в качестве непререкаемого авторитета в области краеведения — того, кого русские называют краеведом, буквально «знатоком местности». В 1960-х годах Александра Никитична устроила в бывшем здании однокомнатный музей.
затем приют, наполнив его фотографиями, стихами и письмами местных жителей, которые оставили след в советском обществе. Ярая и честная коммунистка большую часть своей жизни искренне радовалась советским триумфам и достижениям. Но
были и вещи, которые Александра Никитична хранила при себе, вещи, которые нельзя было поставить в ее музей.
Ее опыт работы учителем истории вскоре объединился с
ее безграничное любопытство утвердить ее в качестве непререкаемого авторитета в области краеведения — того, кого русские называют краеведом, буквально «знатоком местности». В 1960-х годах Александра Никитична устроила в бывшем здании однокомнатный музей.
затем приют, наполнив его фотографиями, стихами и письмами местных жителей, которые оставили след в советском обществе. Ярая и честная коммунистка большую часть своей жизни искренне радовалась советским триумфам и достижениям. Но
были и вещи, которые Александра Никитична хранила при себе, вещи, которые нельзя было поставить в ее музей.
В том же шестидесятом году рабочие, разбирая трубу сгоревшего господского дома, обнаружили урну с письмами и фотографиями, предположительно спрятанные там Осоргиными, семьей моей матери, перед изгнанием. Были письма от
«мальчики на фронте» и открытка одной из девочек матери о женихе, от которого она не могла отделаться. По словам Александры Никитичны, письма разошлись по деревне и исчезли. Сохранилось лишь несколько фото-трещины
и выцветшие снимки дам в длинных платьях и детей в поле. В семидесятые годы брат Александры Никитичны тайно просматривал западные коротковолновые радиопередачи (рискованное, но распространенное в те времена предприятие) и пришел
после беседы с одним Осоргиным в Париже, рассказывающей о Сергиевском. Он понял, что речь идет о бывшей усадьбе в Кольцово, и рассказал сестре. Однако на неформальных краеведческих семинарах Александра Никитична
придерживался официальной линии, что бывшие помещики были хищными феодальными эксплуататорами.
По словам Александры Никитичны, письма разошлись по деревне и исчезли. Сохранилось лишь несколько фото-трещины
и выцветшие снимки дам в длинных платьях и детей в поле. В семидесятые годы брат Александры Никитичны тайно просматривал западные коротковолновые радиопередачи (рискованное, но распространенное в те времена предприятие) и пришел
после беседы с одним Осоргиным в Париже, рассказывающей о Сергиевском. Он понял, что речь идет о бывшей усадьбе в Кольцово, и рассказал сестре. Однако на неформальных краеведческих семинарах Александра Никитична
придерживался официальной линии, что бывшие помещики были хищными феодальными эксплуататорами.
Однако не вся дореволюционная история была запретной. Если об Осоргиных мало говорили, то все знали о человеке, владевшем этими землями до них, генерале Каре: признанном злодее русской истории. Согласно сложившемуся
По легенде, Кар был жестоким англичанином на службе у императрицы Екатерины Великой, который был сослан ею в это имение за то, что отказался от своего командования и бежал от войск мятежного крестьянина Пугачева. Александр Пушкин, Россия
величайший поэт, увековечивший бесчестие Кар в своей истории восстания, а столетия местных украшений превратили генерала в поистине злую фигуру. Говорили, что сосланный сюда в свое поместье, Кар использовал бочку с добытым нечестным путем золотом.
построить себе величественный особняк по образцу английского форта. Затем он приказал своим крепостным прорыть туннель к реке Оке, чтобы он мог сбежать, если кто-нибудь из его многочисленных врагов придет за ним. Все крепостные, работавшие на туннеле, исчезли.
сказал, и когда какие-то местные мальчишки нашли туннель в 1920-х годов они утверждали, что видели внутри распятые скелеты. По словам Пушкина, Кар встретил соответствующий конец — его растерзали разъяренные крепостные. Тогда его благочестивый и долготерпеливый
вдова, урожденная принцесса, построила в поместье красивую церковь, чтобы искупить его грехи.
Александр Пушкин, Россия
величайший поэт, увековечивший бесчестие Кар в своей истории восстания, а столетия местных украшений превратили генерала в поистине злую фигуру. Говорили, что сосланный сюда в свое поместье, Кар использовал бочку с добытым нечестным путем золотом.
построить себе величественный особняк по образцу английского форта. Затем он приказал своим крепостным прорыть туннель к реке Оке, чтобы он мог сбежать, если кто-нибудь из его многочисленных врагов придет за ним. Все крепостные, работавшие на туннеле, исчезли.
сказал, и когда какие-то местные мальчишки нашли туннель в 1920-х годов они утверждали, что видели внутри распятые скелеты. По словам Пушкина, Кар встретил соответствующий конец — его растерзали разъяренные крепостные. Тогда его благочестивый и долготерпеливый
вдова, урожденная принцесса, построила в поместье красивую церковь, чтобы искупить его грехи.
Местная легенда на этом не остановилась. Имение Кар в конечном итоге унаследовал его сын Сергей, бродяга-садист, который, как предполагалось, получал удовольствие от крестьянских девушек, а затем убивал их и бросал тела в лесу. Этот
оттого, рассказывала мне Александра Никитична, лес называется Зараза-Зараза. В дальнейшем Сергей проиграл имение в карты Михаилу Герасимовичу Осоргину, военному, который сошел с ума в первый же свой визит в имение, когда
он понял, что благочестивая мать Каря похоронена в усадебной церкви, и, таким образом, Сергей Кар фактически просадил собственную мать! Несколько лет назад, рассказала Александра Никитична, рабочие, копавшие на месте старой церкви, наткнулись на
скелет, задрапированный тонкой черной тканью, с драгоценными кольцами на костях пальцев. Кольца исчезли, а местных детей поймали за игрой в футбол с черепом.
Имение Кар в конечном итоге унаследовал его сын Сергей, бродяга-садист, который, как предполагалось, получал удовольствие от крестьянских девушек, а затем убивал их и бросал тела в лесу. Этот
оттого, рассказывала мне Александра Никитична, лес называется Зараза-Зараза. В дальнейшем Сергей проиграл имение в карты Михаилу Герасимовичу Осоргину, военному, который сошел с ума в первый же свой визит в имение, когда
он понял, что благочестивая мать Каря похоронена в усадебной церкви, и, таким образом, Сергей Кар фактически просадил собственную мать! Несколько лет назад, рассказала Александра Никитична, рабочие, копавшие на месте старой церкви, наткнулись на
скелет, задрапированный тонкой черной тканью, с драгоценными кольцами на костях пальцев. Кольца исчезли, а местных детей поймали за игрой в футбол с черепом.
Конечно же, здесь был зарыт клад. Как-то в 1960-х годах, по словам Александры Никитичны, приехал мужчина с двумя прекрасными дочерьми и поселился в заброшенной конюшне, в липовом парке. Каждую ночь он копал в парке; потом однажды они
исчезли, оставив после себя незаполненную дыру. Кто он такой и что он нашел, так никто и не узнал.
Каждую ночь он копал в парке; потом однажды они
исчезли, оставив после себя незаполненную дыру. Кто он такой и что он нашел, так никто и не узнал.
Увы, когда я начал исследовать историю этого места, я часто обнаруживал, что факты не соответствуют легенде. Выяснилось, что генерал Кар был шотландского, а не английского происхождения, и он был, вероятно, не столько трусом, сколько жертвой придворные интриги. Лес был назван Зараза не из-за разлагающихся девиц, а из-за архаического значения слова «крутая и неровная земля», которым оно, безусловно, и является. Но что такое истина? Факты истории? Версия Большевики навязали? Или легенды, живущие среди людей? В Советском Союзе «история» как наука всегда носила клеймо идеологии, а легенды по крайней мере имели достоинство старости.
Верно только то, что после того, как Михаил Герасимович Осоргин вступил во владение имением, на нем выросло три поколения Осоргиных, которые образовали почти мистическую связь со своим Сергиевским, под которым они его знали. Мой дедушка Сергей
Михайлович был вторым сыном последнего владельца Сергиевского. Он родился в 1888 году, там и прошло его детство. Спустя много лет и изменений, согбенный астмой, но все еще полный юмора и жизни, в нью-йоркской квартире с видом на
мосту Джорджа Вашингтона, он достал свою старинную русскую пишущую машинку и начал писать.
Мой дедушка Сергей
Михайлович был вторым сыном последнего владельца Сергиевского. Он родился в 1888 году, там и прошло его детство. Спустя много лет и изменений, согбенный астмой, но все еще полный юмора и жизни, в нью-йоркской квартире с видом на
мосту Джорджа Вашингтона, он достал свою старинную русскую пишущую машинку и начал писать.
«Дорогие мои дети и внуки, хочу передать вам воспоминания моей юности, тех далеких лет полного счастья.» Он писал о временах года и праздниках, о гармонии родового порядка и красотах своего уголка России: «Известно, что прекраснейший участок нашей прекрасной реки Оки находится между Калугой и Серпуховом, где река течет на восток и оба берега высоки, а потому особенно прекрасны. Мы жили как раз на той стороне Оки».
Романтичный, остроумный и глубоко верующий человек, Сергей возвысил Сергиевское своего детства до всеобщего духовного дома: «Я верю, что у каждого в тайном уголке души есть свое Сергиевское. быть в России, или во Франции для французов: это там, где душа впервые открылась, чтобы принять Божью вселенную и ее чудеса. . . . Сергиевское и есть тот затерянный земной рай, по которому мы все тоскуем, полагая, что если бы мы только могли
вернитесь, мы были бы счастливы».
быть в России, или во Франции для французов: это там, где душа впервые открылась, чтобы принять Божью вселенную и ее чудеса. . . . Сергиевское и есть тот затерянный земной рай, по которому мы все тоскуем, полагая, что если бы мы только могли
вернитесь, мы были бы счастливы».
Я вырос на его рассказах. Еще до того, как я стал достаточно взрослым, чтобы знать, что существует Советский Союз, я знал, что есть Сергиевское, где леса были полны грибов, где мой дед и его брат построили гравитационный насос, чтобы доставлять воду из Разбойничий родник, где зимой бродили голодные волки и где в один из осенних дней мой дед выстрелил себе в ногу из пистолета, а местный врач пытался (и не смог) выковырять пулю швейными ножницами.
Конечно, следует ожидать, что люди, у которых было счастливое детство, с любовью описывают место, где они выросли. Но Сергиевское, похоже, наложило аналогичные чары на многих других. Один мирской двоюродный брат Осоргиных,
Князь Григорий Николаевич Трубецкой, посол царя Николая II в Сербии, приехал в Сергиевское через несколько месяцев после революции 1917 года. Визит произвел на него сильное эмоциональное впечатление, может быть, потому, что он только что закончил
мучительное путешествие с юга России через районы, опустошенные гражданской войной, и он оказался в идиллическом остатке мира, который, как он знал, умирал.
Один мирской двоюродный брат Осоргиных,
Князь Григорий Николаевич Трубецкой, посол царя Николая II в Сербии, приехал в Сергиевское через несколько месяцев после революции 1917 года. Визит произвел на него сильное эмоциональное впечатление, может быть, потому, что он только что закончил
мучительное путешествие с юга России через районы, опустошенные гражданской войной, и он оказался в идиллическом остатке мира, который, как он знал, умирал.
«Все приезжавшие к ним [Осоргиным] чувствовали себя в Сергиевском как в духовном санатории», — писал он. «Осоргины любили свое Сергиевское, как можно любить только близкое и дорогое существо, и особенно дорожили его природная красота, которая действительно была изумительна».
Большевики уже отобрали у Осоргиных земли и часть дома, но они остались, полагая, что будут в безопасности среди дружелюбных и лояльных крестьян, пока не пройдет революционная зараза. Люди из села продолжали
приходить к ним по-прежнему за лечением и советом, а позже приносить им муку, сахар, керосин и сукно.
Люди из села продолжали
приходить к ним по-прежнему за лечением и советом, а позже приносить им муку, сахар, керосин и сукно.
Трубецкой написал удивительно трогательный портрет семьи — близкой, любящей, музыкальной, набожной, щедрой, культурной — и уголка России, который оставался гармоничным и хорошим даже тогда, когда вся страна разваливалась.
Одна из четырех сестер моего деда, Мария Осоргина, была талантлива в рисовании и запечатлела одно из последних лет в Сергиевском в серии изящных силуэтных зарисовок. Повар еще обсуждает с хозяйкой меню;
девушки работают в саду в длинных юбках и соломенных шляпах; мой дедушка, согбенный от ранения, полученного на немецком фронте, сидит в плетеном кресле рядом со своей детской любовью и невестой Соней Гагариной; его отец Михаил
Михайлович, еще барин — местный барин, — властно расхаживает со своей патриархальной бородой, своим большим псом Нероном и закатанными по-деревенски штанами.
Трубецкой, член аристократического рода, прославившийся в последней главе царской России своей пламенной либеральной политикой, последнее приобщение к старому порядку находил мучительным: «Неужели я больше никогда не увижу Сергиевское? не могу принять это. Такие уголки русской жизни, пронизанные ветхозаветным, любящим и твердым духом, не должны исчезнуть. Сколько простых людей нашли в Сергиевском луч света для моральной и материальной помощи! Как много их друзей и знакомых, страдавших в жизненных бурях, нашли передышку у гостеприимного очага этой мирной обители! Потеря таких убежищ, как бы мало их ни было — или, может быть, именно потому, что их так мало, — была бы незаменимый для России. Утешает только то, что добрые семена, посеянные столько лет в этой благодатной почве, не могут бесследно пропасть: «память о них из поколения в поколение». »
Жизнь Осоргиных в Сергиевском оборвалась в октябре 1918 года. Приехал местный большевистский комитет и выписал их, дав три дня на отъезд. Старые слуги и крестьяне были охвачены горем и смятением. Ночной сторож
жаловался, что «от стольких мыслей у меня развилась нимфозория в голове» — состояние, о котором до сих пор никто не слышал. Судебный пристав суетился, готовя провизию и устраивая шестерых молодых людей для сопровождения
Осоргиных до самой Москвы. Арсений Георгиевич Джуверович, сербский врач, всю войну проработавший в Сергиевском в госпитале, устроенном Осоргиными в их доме, приехал из Калуги проститься и плакал, как
ребенок. Последний оставшийся в живых бывший крепостной, 90-летняя прачка, стояла со слезами, текущими по лицу, крестила уходящих господ.
Приехал местный большевистский комитет и выписал их, дав три дня на отъезд. Старые слуги и крестьяне были охвачены горем и смятением. Ночной сторож
жаловался, что «от стольких мыслей у меня развилась нимфозория в голове» — состояние, о котором до сих пор никто не слышал. Судебный пристав суетился, готовя провизию и устраивая шестерых молодых людей для сопровождения
Осоргиных до самой Москвы. Арсений Георгиевич Джуверович, сербский врач, всю войну проработавший в Сергиевском в госпитале, устроенном Осоргиными в их доме, приехал из Калуги проститься и плакал, как
ребенок. Последний оставшийся в живых бывший крепостной, 90-летняя прачка, стояла со слезами, текущими по лицу, крестила уходящих господ.
Одной из тех, кто наблюдал за их уходом, была деревенская девушка по имени Ниночка. Много лет спустя, как Нина Георгиевна Семенова, убежденная коммунистка и отставной администратор гостиницы «Москва» под Кремлем, она услышала обо мне и написала для
мне серию острых виньеток из ее юности. В одном было описание выхода последнего барина Сергиевского, которого она знала как «Михала Михалыча». Она называет село Карово, как оно называлось при генерале Каре и
продолжали называть местные жители.
В одном было описание выхода последнего барина Сергиевского, которого она знала как «Михала Михалыча». Она называет село Карово, как оно называлось при генерале Каре и
продолжали называть местные жители.
В последний раз я видел Осоргина, когда он уезжал из Карово после конфискации его имения и всего имущества и земли. Я помню день отъезда. . . . Он стоял на одной из больших телег, на которых были свалены их вещи, те вещи, которые им разрешили оставить. Михал Михалыч коротко обратился к собравшимся вокруг телег. Мне тогда было тринадцать, и из всего, что он говорил, я помню только это: Он указывал на все вокруг себя — на центральное здание, кулисы, липовая роща — и он сказал: «Я знал, что это будет. Береги все это: здесь можно устроить отличный санаторий или здравницу. Пользуйся, но не разрушай». В те времена усадьбы были горит везде. Многие женщины плакали.
Он поклонился во все четыре стороны и сказал: «Простите меня, если я когда-либо обидел или оскорбил кого-либо из вас».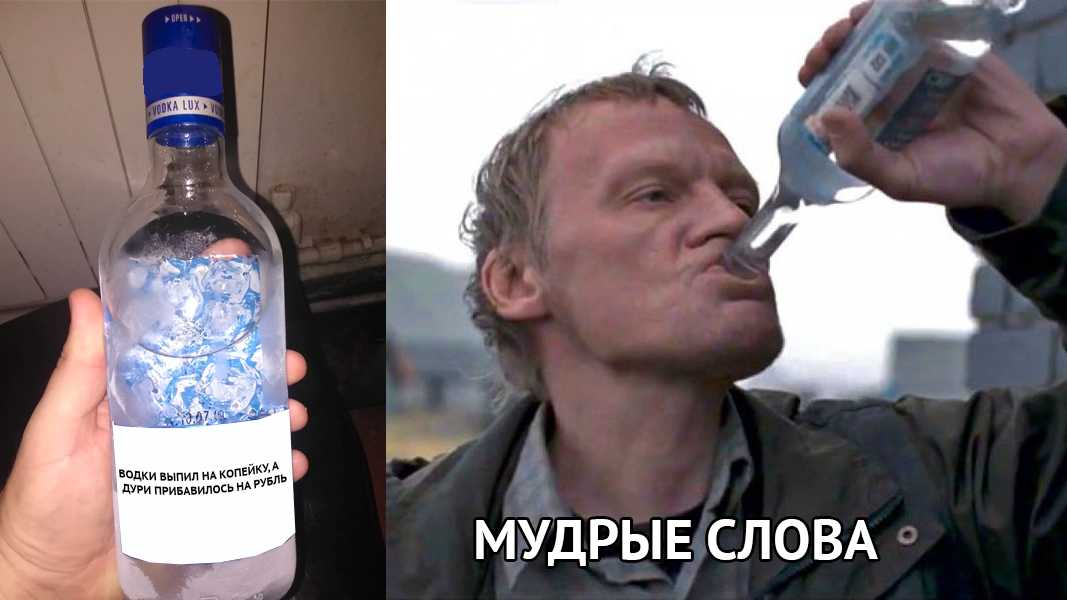 Мужики украдкой утирали слезы. Наконец телеги ушли. Многие провожали их до станции Ферзиково и
помог загрузить поезд.
Мужики украдкой утирали слезы. Наконец телеги ушли. Многие провожали их до станции Ферзиково и
помог загрузить поезд.
То, что произошло потом с Осоргиными, было типичной эпопеей о «бывших людях», как Советы клеймили дворян, чиновников и интеллигенцию павшего царского строя. Старики Осоргины и трое их детей переехали в Подмосковье, ныне называемое Переделкино, где их дом стал центром для других родственников, оставшихся в Советской России. После того, как их младший сын Георгий был расстрелян большевиками, Осоргины покинули Россию и заняли свои путь в Париж с двумя дочерьми и вдовой Георгия. Там в 1931 года они воссоединились со своими тремя другими детьми, включая моего дедушку Сергея. Он уехал на юг России после революции, женился, потом уехал в Европу с женой, когда белые армии рухнули. Моя мать родилась в Баден-Бадене, Германия, в 1923 году.
Нина Семенова умерла в 1993 году.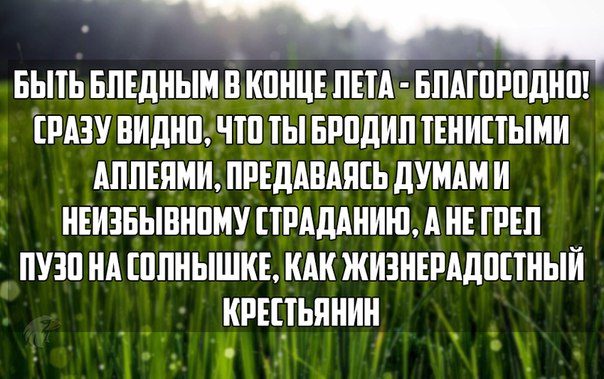 Я никогда не встречался с ней, хотя у меня есть много страниц заметок, которые она написала для меня, почерк которых становился все больше по мере того, как ее зрение ухудшалось, все тщательно переплетены, подписаны и датированы. Она пришла из другого
Вселенной, чем мой дед, но ее Кольцово было ей так же дорого, как ему его Сергиевское. «Моя родина, Россия, для всех нас одинакова», — написала она. «Но у каждого из нас есть уголок на этой необъятной родине,
родная родина, где мы родились, выросли, учились и шли по жизненному пути. Моя родина — село Кольцово».
Я никогда не встречался с ней, хотя у меня есть много страниц заметок, которые она написала для меня, почерк которых становился все больше по мере того, как ее зрение ухудшалось, все тщательно переплетены, подписаны и датированы. Она пришла из другого
Вселенной, чем мой дед, но ее Кольцово было ей так же дорого, как ему его Сергиевское. «Моя родина, Россия, для всех нас одинакова», — написала она. «Но у каждого из нас есть уголок на этой необъятной родине,
родная родина, где мы родились, выросли, учились и шли по жизненному пути. Моя родина — село Кольцово».
То, что произошло с Сергиевским после революции, тоже во многом типично. В первой волне строительства прекрасного нового мира большевики заняли большой дом для фермерской коммуны, Первой рабочей сельскохозяйственной коммуны.
1 мая 1923 года усадебный дом сгорел дотла. По официальной версии, его уничтожили «реакционные бандиты и бывшие белогвардейцы».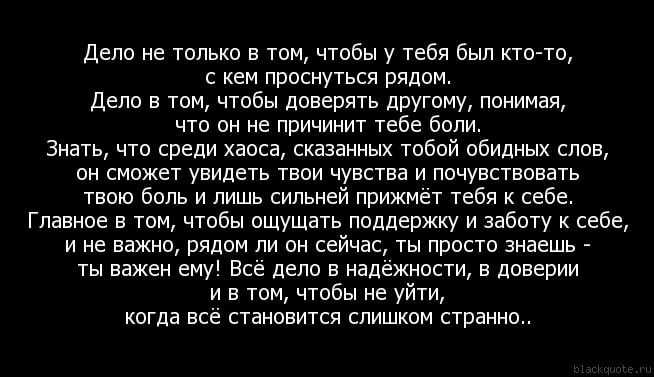 На самом деле его сожгли обиженные крестьяне, а коммунарий,
первые поселенцы новых коммун праздновали Первомай. Крестьяне ненавидели коммуну за присвоение лучших земель и техники.
На самом деле его сожгли обиженные крестьяне, а коммунарий,
первые поселенцы новых коммун праздновали Первомай. Крестьяне ненавидели коммуну за присвоение лучших земель и техники.
Последующая история села была обычной историей коллективизации, чисток и неуклонного укрепления коммунистического контроля. Восемь из пятнадцати семей, живших на гребне вокруг дома Александры Никитичны, были выселены.
в 1930-е годы, когда большевики расправились с кулаками («кулаками»), в категорию, в которую они помещали любого относительно успешного или самостоятельного крестьянина. Видит бог, никто из них здесь не был богат; в лучшем случае у них была лишняя лошадь
или небольшой собственный точильный камень. Некоторые сельчане были втянуты в аппарат принуждения. Миша Тиняков вступил в ЧК — предшественницу КГБ — и приехал арестовывать Осоргиных после революции. Сережа Голубков присоединился к
ЧК из патриотизма. Он наивно протестовал против беспощадных методов «чекистов»; вскоре после этого его семье сказали, что он застрелился.
Он наивно протестовал против беспощадных методов «чекистов»; вскоре после этого его семье сказали, что он застрелился.
Последнего управляющего имением Осоргиных Николая Шутова большевики выгнали из города как кулака, хотя, когда я в последний раз был в деревне, в селе еще жили внук и две внучки. Одна из внучек, сейчас в ней восьмидесятых, с гордостью описал мне свой конец. Это было во время войны. Он шел по дороге, старик, когда мимо прошли немецкие солдаты и попытались отобрать его резную трость на память. Когда он сопротивлялся, они разбили в его череп с его палкой.
Как и везде на постсоветском пространстве, память о Второй мировой войне вызывает у стариков самую большую гордость. Большинство мужчин сражались на фронте, а женщины трудились в тылу. Кольцово ненадолго попало под немецкую оккупацию и впоследствии служило
База авиаразведки Красной Армии. После войны в старой церковно-приходской школе был открыт приют для бесчисленных детей, оставшихся без крова из-за войны.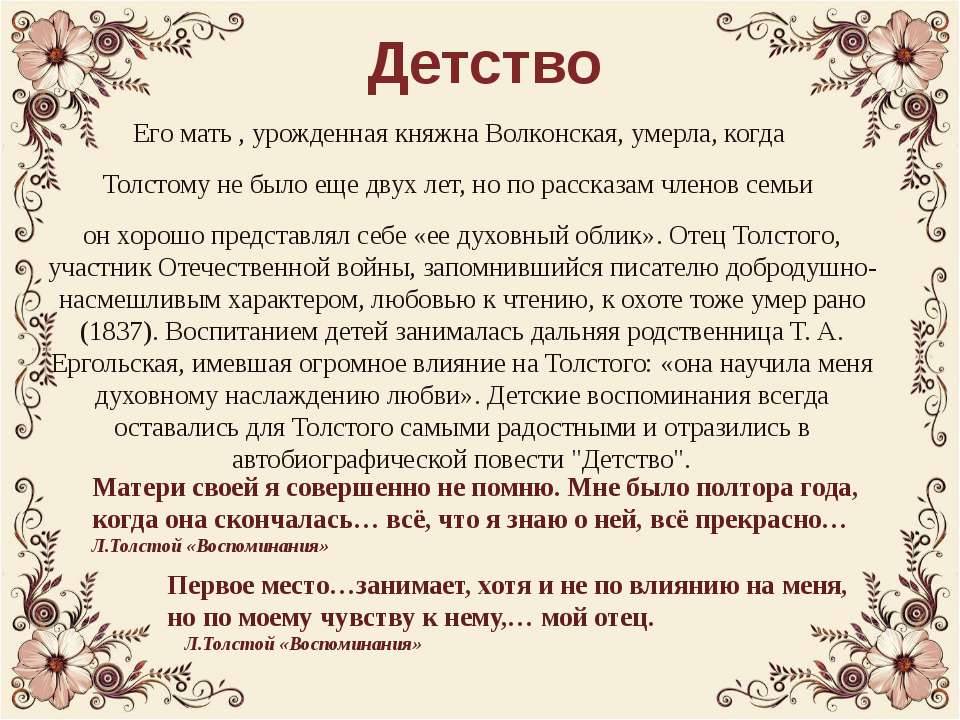 Александра Никитична вспомнила о проблемах, которые возникали, когда молодые беспризорники
стал достигать подросткового возраста. Не зная, как еще удержать мальчишек и девчонок в узде, она отвела мальчишек в сторону и объяснила, что если они поцелуют девочку, то одно неминуемо приведет к другому, и мальчика расстреляют. И что, я
спросила ее, вы сказали девочкам? Александра Никитична спрятала лицо в смущенном смехе: «Что если они забеременеют, меня расстреляют». Некоторые из ее бывших подопечных — на самом деле приемных детей — до сих пор пишут ей, сказала она.
Александра Никитична вспомнила о проблемах, которые возникали, когда молодые беспризорники
стал достигать подросткового возраста. Не зная, как еще удержать мальчишек и девчонок в узде, она отвела мальчишек в сторону и объяснила, что если они поцелуют девочку, то одно неминуемо приведет к другому, и мальчика расстреляют. И что, я
спросила ее, вы сказали девочкам? Александра Никитична спрятала лицо в смущенном смехе: «Что если они забеременеют, меня расстреляют». Некоторые из ее бывших подопечных — на самом деле приемных детей — до сих пор пишут ей, сказала она.
Даже в лучшие времена жизнь здесь никогда не была легкой. Многое из того, что показалось мне причудливым во время моего первого визита, было рабством у сельских жителей. Огромные дровяные печи требовали бесконечной работы; питьевую воду приходилось носить в ведрах издалека.
кран; флигель стоял по щиколотку в грязи; а картофель, свеклу и лук выращивали не для хобби, а для выживания. Дорога в Кольцово была проложена только после моего первого приезда в 1990 году; до этого бывали дни, когда ближайший город,
Ферзиково, в 8 верстах, можно было добраться только на тракторе. В деревенской лавке всегда было пусто, и не всегда можно было найти даже самое необходимое — темный рассыпчатый хлеб. Когда он был, его быстро раскупили, потому что под замысловатым
При советской системе ценообразования было дешевле кормить свиней и кур печеным хлебом, чем зерном. Алкоголизм, самая распространенная русская болезнь, свирепствовал.
Дорога в Кольцово была проложена только после моего первого приезда в 1990 году; до этого бывали дни, когда ближайший город,
Ферзиково, в 8 верстах, можно было добраться только на тракторе. В деревенской лавке всегда было пусто, и не всегда можно было найти даже самое необходимое — темный рассыпчатый хлеб. Когда он был, его быстро раскупили, потому что под замысловатым
При советской системе ценообразования было дешевле кормить свиней и кур печеным хлебом, чем зерном. Алкоголизм, самая распространенная русская болезнь, свирепствовал.
Эта отсталость проистекала как из советской политики, так и из традиции. Алексей Андреевич Лагутин, кроткий и трудолюбивый сосед Александры Никитичны, ненавидел запустение хорошей земли, поэтому, поселившись в Кольцово, пахал
пустую землю у реки и засадил ее дынями, помидорами, капустой и другими фруктами и овощами, которыми он свободно делился с приютом и другими жителями деревни. Директор колхоза был в ярости: «Что ты пытаешься
Покажите нам?» Он сделал Алексея Андреевича электриком. Однако Алексей Андреевич так и не научился обуздывать свою любовь к выращиванию.
с каким-то новым сортом.
Директор колхоза был в ярости: «Что ты пытаешься
Покажите нам?» Он сделал Алексея Андреевича электриком. Однако Алексей Андреевич так и не научился обуздывать свою любовь к выращиванию.
с каким-то новым сортом.
Однажды, пока жена готовила чай, он вытащил старую гармонику, провел короткими, закаленными пальцами по клавишам и волшебным образом извлек из старинных мехов романтическое танго. В первые послевоенные годы, вспоминал он, когда
казалось, что их «светлое будущее» наконец-то приблизилось, жители деревни собирались в липовом парке летней ночью и танцевали под его музыку. Все они уже ушли, сказал он; остались только он, его жена и еще несколько человек.
Алексей Андреевич заболел весной 19 г.94. Его жена попросила меня принести лекарство, но я пришел слишком поздно. Он был невозможен в клинике, сказала она, настаивая на том, чтобы она приносила свежую еду для всех пациентов. Она также
сказал, он неоднократно спрашивал меня вдогонку: «Когда приедет Сергей Александрович? Мне еще так много нужно ему сказать».
Вернуться на главную страницу книг
Парижские дебюты | Николай Набоков: Жизнь в свободе и музыке
Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНиколас Набоков: жизнь в свободе и музыкеМузыковедение и история музыкиКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНиколас Набоков: жизнь в свободе и музыкеМузыковедение и история музыкиКнигиЖурналы Термин поиска на микросайте
Расширенный поиск
Иконка Цитировать Цитировать
Разрешения
- Делиться
- Твиттер
- Подробнее
Cite
Giroud, Vincent,
‘Paris Debuts’
,
Nicolas Nabokov: A Life in Freedom and Music
(
New York,
2015;
online edn,
Oxford Academic
, 19 марта 2015 г.
), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199399895.003.0005,
, по состоянию на 17 декабря 2022 г.
Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНиколас Набоков: жизнь в свободе и музыкеМузыковедение и история музыкиКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНиколас Набоков: жизнь в свободе и музыкеМузыковедение и история музыкиКнигиЖурналы Термин поиска на микросайте
Advanced Search
Abstract
Переехав в Париж в 1924 году, Набоков некоторое время жил в комнате художника Павла Челищева на Монпарнасе и начал общаться с французскими музыкантами, такими как Жорж Орик и Анри Соге. Пережив религиозный кризис, он также сблизился с кругом Жака Маритена и его жены Раисы. После того, как его представили Сержу Дягилеву, который, в свою очередь, познакомил его со Стравинским, его карьера пошла вверх в 1928 октября, когда Ballets Russes поставили его балет-кантату «Ода » в хореографии Леонида Мясина в футуристической декорации Челищева.
Пережив религиозный кризис, он также сблизился с кругом Жака Маритена и его жены Раисы. После того, как его представили Сержу Дягилеву, который, в свою очередь, познакомил его со Стравинским, его карьера пошла вверх в 1928 октября, когда Ballets Russes поставили его балет-кантату «Ода » в хореографии Леонида Мясина в футуристической декорации Челищева.
Ключевые слова: Париж, русская эмиграция, Павел Челищев, Анри Соге, Жак Маритен, Раиса Маритен, Русские балеты, Игорь Стравинский, Серж Дягилев
Предмет
Музыковедение и история музыки
В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.
Войти
Получить помощь с доступом
Получить помощь с доступом
Доступ для учреждений
Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок.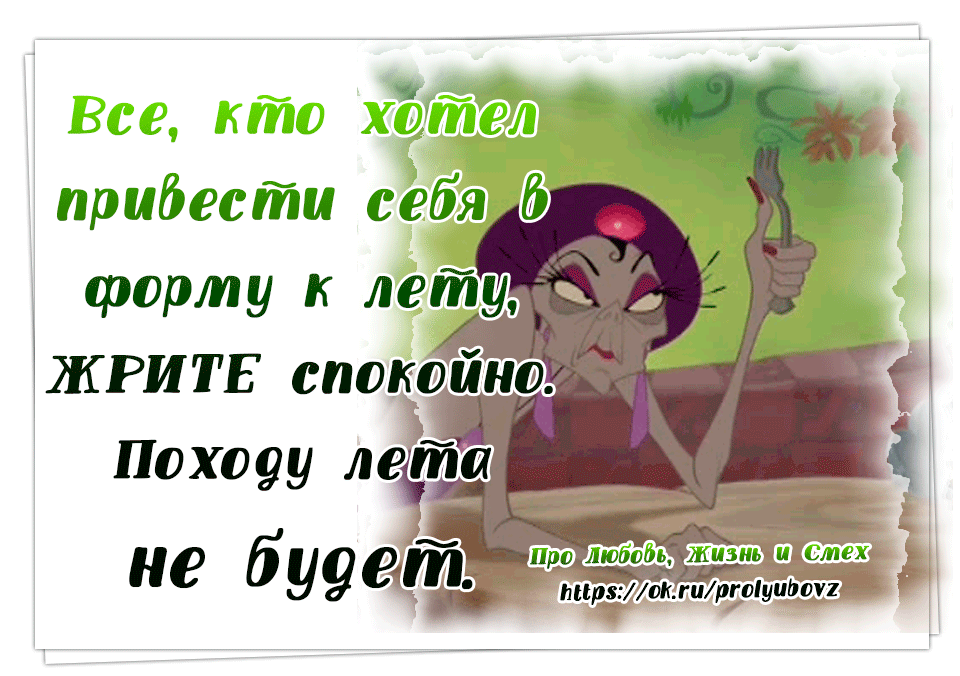 Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:
Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:
Доступ на основе IP
Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.
Войдите через свое учреждение
Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.
- Щелкните Войти через свое учреждение.
- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.
- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.
 Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.
Войти с помощью читательского билета
Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.
Члены общества
Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:
Войти через сайт сообщества
Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:
- Щелкните Войти через сайт сообщества.
- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.
 Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.
Войти через личный кабинет
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.
Личный кабинет
Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.
Просмотр ваших зарегистрированных учетных записей
Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:
- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.


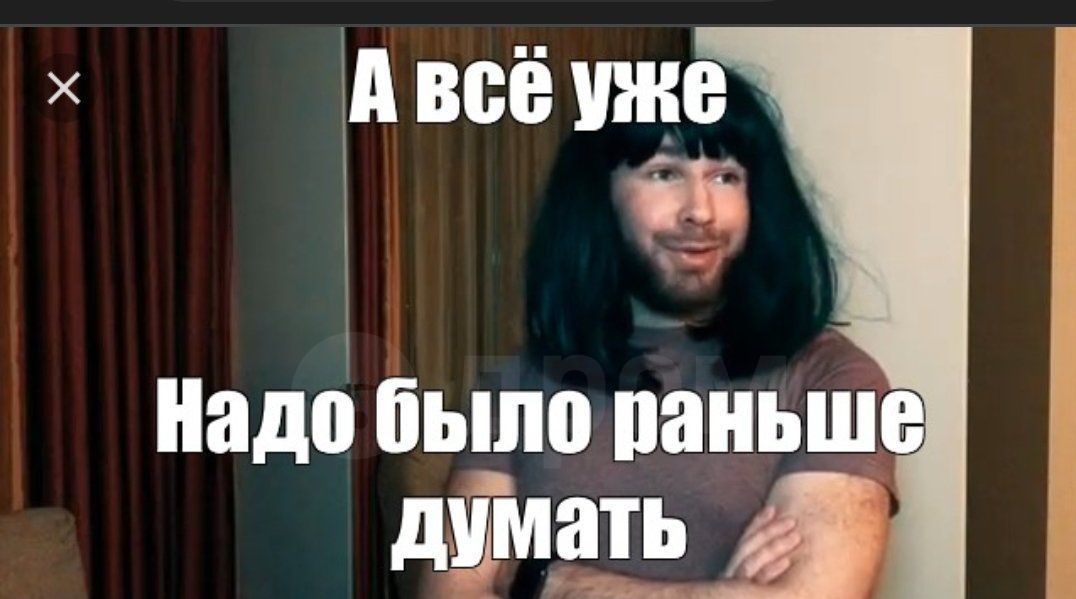 Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.